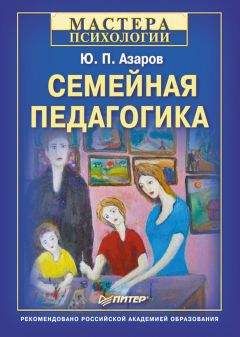Юрий Азаров - Печора
— Чего же хотела Лариса?
— Она просила помощи, чтобы расследовать убийство.
— Так это было убийство?
— Она так считает. Ей кто-то сказал, что его убили. Затравили собаками…
— А папа знал, что этот человек — жених Ларисы?
— Знал. У них давняя вражда. Он пытался ему помочь вначале, и от этого тоже были неприятности. На отца написали донос, и он едва уцелел в сорок девятом году.
— И ты больше не видела родственницу?
— Нет, я на следующий день была на вокзале, но она не стала со мной разговаривать.
— А потом?
— А потом, девятнадцатого февраля, её не стало. Света посмотрела на меня и замолчала.
— Что же дальше? — спросил я.
— А дальше мама предупредила: «Если хочешь убить отца, можешь рассказать ему о Морозовой». Я спросила: «Как это убить?» Она сказала: «Обыкновенно. Из пистолета. Возьмет и застрелится. Он на грани». Я спросила: «Как это на грани?» А мама сказала: «Отстань!» Я поняла: она имеёт в виду последнюю комиссию по реабилитации, куда и Брыскалов вошел. И теперь убийство Морозовой стали связывать с вами…
— Со мной?!
— Я сама листала огромное дело, где было множество показаний о том, что видели вас в номере Морозовой в ночь на девятнадцатое февраля. Я еще обратила внимание, что почему-то при этом упоминалась отмена крепостного права…
— Чепуха какая-то! — сказал я.
— Я тоже думала, что чепуха, но меня эта отмена крепостного права очень поразила. И еще поразило то, что в бумагах перечисляются все наши герои — и Иннокентий Десятый, Веласкес, боярыня Морозова, Макиавелли, Лукреция Борджиа. И еще я обратила внимание на то, что некоторые бумаги были написаны вашей рукой. Я ваш почерк ни с чьим не спутаю. Неужели вы унизились до того, что сами стали писать доносы?
Света смотрела на меня в упор.
— Молчите? Значит, писали?!
— Значит, писал, — ответил я.
— Зачем же вы? Выходит, говорить и восхищаться протопопом Аввакумом — это одно, а жить по законам честности — это совсем другое!!! Но сейчас совсем о другом я хочу узнать. Вы действительно были в ночь на девятнадцатое февраля в номере Морозовой?
Света смотрела со злостью. В её глазах сверкало нетерпение, и скажи я, что я был в номере, я тут же получил бы такую жестокую и, впрочем, весьма желанную и справедливую пощечину.
— А ты как считаешь? — спросил я и так беззащитно посмотрел в её бархатные глаза, что она вмиг смягчилась.
— Я вам верю.
— На вокзале я был, — ответил я, и Света вздрогнула, — а в номере не был. Меня поразило её лицо…
— Вам нельзя отсюда уезжать. Если вы уедете, значит, всем будет ясно: вы виноваты во всем.
— А как же мама?
— Мама решает другие задачи. И еще один вопрос, который мне хотелось бы с вами обговорить, — сказала Света, и я был поражен, с какой твердостью она это сказала. — Мне пришла в голову одна фантазия. Я, как вы знаете, увлеклась театром и всем говорила, какой вы хороший учитель и какую пользу приносите школе.
Сказав это, Света замолчала.
— Продолжай, — попросил я.
— Мама стала доказывать, что ваши эксперименты только время отнимают у ребят, что если кому и надо, так тот сам займется и историей, и искусством, и театром.
— Ты так считаешь? — спросил я.
— Я так не считаю. Если бы я так считала, то не стала бы помогать вам.
Мне снова стало досадно и обидно, что она так запросто дает понять мне, что я в сравнении с нею беспомощный, слабый, которого можно как угодно оскорбить, опекать или даже выселить из Печоры.
Что-то подсказало мне, что надо взять верх над ученицей. Взять немедленно, чтобы не оставалось привкуса этой отвратительной возможной моей зависимости.
— А мама в общем-то права, — сказал я. — Тебе, может быть, и мало что дадут наши занятия. Самое ценное образование — это то, какое сам человек добывает без подсказки извне. Конечно, в наших занятиях есть свои достоинства. Мы же не только пополняем багаж знаний. Мы учимся понимать себя, учимся помогать другим. Все это мама называет чепухой. Может быть, она и права. Потому что человеколюбием не добудешь ни денег, ни благополучия.
— Это не так. — Глаза у Светы снова заблестели тем чудесным блеском молодости, какой всегда привлекал меня и зажигал до такой степени, что хотелось и жить, и удвоенно работать, чтобы еще лучше любили и понимали друг друга мои дети. — Я спросила однажды у мамы: «Ты счастлива? У тебя же все есть». Мама заплакала и обняла меня. Я поняла тогда, что мама моя несчастна. И вот теперь, когда мама снова стала говорить мне, что мне это не нужно и то не нужно, я вдруг у неё спросила: «Мама, а ты счастлива?» Мама закричала: «Не юродствуй!» Вот тогда-то я и объявила дома, что влюблена в вас и что если хоть один волосок упадет с вашей головы, я поступлю так, как поступила Лариса. Как только я напомнила про Ларису, мама упала в обморок.
— А потом что?
— А потом мама обняла меня. Она у меня добрая! — И глаза у Светы снова заблестели ликующим блеском.
— И мы долго плакали. Плакали до тех пор, пока не пришел папа.
Я смотрел на Свету, должно быть, грустными глазами. Не было у меня теперь желания показывать свое превосходство. Слабость подступила. Может быть, это состояние мое стало понятным Свете, она что-то уловила из этого моего состояния слабости, потому, возможно, и сказала прямо противоположное тому, что говорила до сих пор:
— Я обманула маму. Я сказала, что влюблена в вас, потому что у меня действительно не было никакого выхода.
— Значит, ты сказала маме неправду?! — спросил я жестко.
— Нет, я сказала правду, правду, что влюблена, только не в вас, вы здесь ни при чем. Я люблю другого человека.
То, что потом сказала вдруг Света, совершенно сшибло меня, я ушам своим не верил, дыхание у меня сбилось, я готов был разорвать её на части, и если бы она не была всего лишь моей ученицей, я бы не знаю что ей наговорил. А впрочем, как знать: её глаза смотрели теперь так доверчиво и так участливо, точно она признавалась мне в новых своих достоинствах: «А вы знаете, я вот такая наивная и ничего не смогу с собой поделать, мне так хочется всех любить и всем помогать. Что в этом дурного?» Она сказала, играя своими прекрасными бархатными глазами:
— Вы мне понадобились как прикрытие. — Света, увидев замешательство на моем лице, пустилась а оправдания.
— А что? Вам ничего дурного от моего признания не будет, а мне польза.
Я смотрел на Свету. Я всегда считал её умной девочкой, но чтобы вот так она плела сети и вот так бойко расставляла в игре человеческие фишки, этого я предположить не мог. С одной стороны, меня обрадовало то, что я непричастен к её любви, а с другой — меня задело то, что она так смело меня вышвырнула из своей души. Отреклась. Ведь был же нимб. Было сияние. Был морозный вечер, когда мы спасались от бандитов. Я, должно быть, растерялся, и она смягчилась и по-доброму улыбнулась. Наверное, ей чуточку стало жалко меня.
— Не вздумайте звонить моей маме и сообщать ей приятную новость о том, что вы не имеёт к моим чувствам никакого отношения. Это будет глупо, потому что папа заподозрит вас в обмане, а во-вторых, мне пока невыгодно что-либо менять в этой истории.
Света посмотрела на меня уже спокойно. Вытащила из-под парты свой кожаный блестящий портфель и достала оттуда тетрадь.
— Вот что у меня получилось для сценария. Сегодня будет репетиция?
— Будет, — машинально ответил я. Мимо нас, наверное, в десятый раз прошел Чернов. В его взгляде была не то злобность, не то растерянность. Я понял: не меня поджидал Валерий.
Двадцать лет спустя Чернов — он станет начальником отряда в исправительно-трудовой колонии — признается мне:
— Помните, тогда на Печоре вы чуть не утонули. Так это я выстрелил в вашу лодку…
15
Заседание вел Чаркин.
— Я не специалист в этих делах, — сказал он. — Но товарищи подскажут, если я ошибусь. Кое-какие пьески я смотрел и могу как педагог сказать: поражен! Поражен, товарищи! Как можно с такими вещами выходить на сцену? Это же открытая пропаганда религии. Попы и монахини превращены в положительных персонажей. Мы, значит, в одну дуду, а Попов в другую. Нет, товарищи, мы должны сейчас осудить такую пропаганду, потому что здесь все ведет к разрушению школы, нашего порядка, нашей морали. В спектакле были такие слова, что мне, мужчине, их стыдно произносить. Мне хотелось бы, чтобы товарищ Попов ответил, из каких соображений он нецензурщину вводит в норму. Почему мы боремся с нецензурщиной, а он её насаждает? Объясните!
— Я знаю, о чем вы говорите, — сказал я. — Я не сторонник был этого текста. Но ребята настояли, чтобы сохранить все же историческую достоверность…
— Не убедительно. Согласитесь, не убедительно.
— Согласен, — сказал я. — Ну, предположим, это большой недостаток, а дальше? А все остальное?