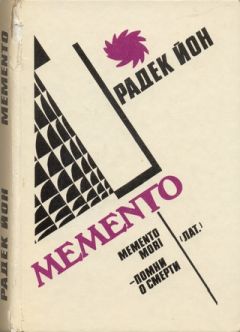Алексей Колышевский - Взятка. Роман о квадратных метрах
– Послушайте, – деланно-усталым голосом сказала Бабурина, – вы себя странно ведете. Мы с вами не на маскараде, вы прекрасно видите, кто перед вами, и если я говорю, что участки вами получены незаконно, значит, так оно и есть. Ни о каком генподряде речь уже не идет, понимаете ли. Речь идет о том, как бы вам подипломатичней упросить меня у вас эти участки без лишнего шума выкупить. Заметьте, что я вам предлагаю сделку, а не заявляюсь сюда с представителями закона и правопорядка, дабы насладиться видом наручников на ваших запястьях.
– А вот я любуюсь наручником на вашем запястье, дорогая госпожа Бабурина. Еще раз повторяю, что все бумаги оформлены правильно, все печати стоят там, где положено, все подписи всех ответственных жуликов также на месте и пройдут любую экспертизу подлинности. Но я, как человек деловой, стремлюсь узнать о величине вашего предложения в стойкой валюте. Я заплатил за три участка сорок шесть миллионов долларов. Деньги, конечно, не мои, а банка, так что придется возвращать с процентами и набежит еще порядочно. Я понимаю, что если женщина просит, то надо уступить, поэтому с превеликим удовольствием уступлю вам землю за семьдесят миллионов, хоть Семен Ильич такие сделки и не приветствует. Правда, Семен Ильич? – обратился я к Кисину.
…Земельные спекуляции московским правительством никогда не поощрялись, и после однократной перепродажи земли в третьи руки фирма-спекулянт к участию в последующих аукционах тупо не допускалась…
– Слава, ты успокойся. Милена Николаевна тебе предлагает, как избежать крупных неприятностей, а ты ей условия ставишь. Нехорошо, – покачал головой дед. – У меня тоже есть информация, что ты участки купил с нарушениями, что бумаги у тебя оформлены неправильно.
– Да откуда у вас такие сведения-то? – вскипел я. – Даже если предположить, что у меня что-то не так оформлено, хотя мне в это не верится, то я самолично берусь все это исправить в кратчайший срок.
– Не получится, Слава, – тяжело проговорил Кисин, встал из-за стола, сделал несколько шагов и опустился в кресло рядом с Бабуриной. Теперь они сидели напротив меня: потерявшая человеческий облик тетка, которая была всего на десять лет меня старше, а выглядела она словно смятая пачка творожной массы, и алчный старик – ее послушный клеврет. Два хозяина строительной мафии, два ее высших представителя.
– Слава, тебе в центре делать нечего. Я уже как-то намекал. Помнишь? Милена Николаевна с банком сама договорится, переоформите права на участки, и живи себе спокойно, строй вон где-нибудь в Королеве или в Мытищах. Да где угодно! К тому же, и я тебе всегда помогу, – увещевал Кисин.
– И я перед губернатором словечко замолвлю, – улыбнулась Бабурина и стала вместо свиньи похожа на жабу.
Тут меня разобрал смех, это была настоящая истерика, прорыв дамбы, извержение долбаного вулкана. Я хохотал до желудочных колик, до слез, и сквозь слезы лица жуликов, искаженные словно в потешной комнате с кривыми зеркалами, казались еще уродливей, еще гаже. Они вызвали меня, чтобы забрать мой бизнес! Вот так, просто и бесхитростно! Да это же просто сенсационный беспредел! Что же мне теперь, вот так вот просто взять и отступиться? Дать себя поиметь этой царь-бабе? А что еще остается…
Переутомление последних дней, трагедия мамы, ил, давно скопившийся в душе, – все это сыграло со мной злую шутку. Я встал, на глазах у этих изумленных крокодилов расстегнул ширинку, вытащил член и, потрясши им, произнес таковы слова:
– Ай ты ж гой еси Бабурина Бабуриновна! Коли соснешь ты хуйца-молодца молодецкого, то отдам я тебе те земли спорныя, те участки вздорныя, дабы ты на них хоромы понастроила да понатыкала. Ан не соснешь, так и не видать тебе ничего, кроме ушей твоих, гожих токмо для студня!
– Он тронулся, – спокойно произнесла Бабурина. – Видите, Семен Ильич? У него, наверное, белая горячка.
– Хуячка! А не хочешь так, и как хочешь, – проговорил я, заправляясь и застегиваясь. – Ничего я никому передавать не стану. Мы в государстве живем, а не в банде. Я общественность растревожу и во все газеты напишу, как вы меня на пару тут обрабатывали. Шолом Алейхем! – попрощался я на еврейский манер и, трахнув дверью, вышел вон. Увидев изумленную моим поведением секретаршу, я растопырил пальцы, приставил большие к вискам так, что получилось на манер рогов, и закричал дурным голосом:
– Так вот он какой, северный олень!
После чего издал губами пердячий звук и, весьма довольный собой, покинул негостеприимный дом сей на веки вечные. В машине мне стало худо, в глазах маячили какие-то зеленые круги, я слышал голоса, среди которых мне отчетливо померещился голос Аллы, а потом мне показалось, что Блудов затянул лихой куплетец:
– Там в семье прокурора, безотрадно и тихо,
Там жила дочь-красотка с золотою косо-о-й,
С голубыми глазами и по имени Нина,
Как отец горделива и роскошна собо-о-й.
…Доктор диагностировал у меня нервное расстройство и рекомендовал длительный отдых на курортах. Я прогнал его и назвал шарлатаном, а он меня шизофреником. Голоса покинули меня и больше не возвращались. Я завел себе диктофон, благодаря которому, а также несомненному таланту Вадика вы теперь читаете все это.
Арест
1
– А девочки пишут стихи? – Я сидел на ковре в ее спальне в позе лотоса и смотрел, как Женя медленно стягивает чулки. Это я заставил ее надеть чулки. Красные. У нее в спальне было много всего такого.
– Конечно, пишут. Я тоже что-то такое, помню, написала.
Шипит стаканчик с газировкой,
асфальт расплавленный плывет,
а я иду к тебе Петровкой,
и сердце радостно поет,
– она рассмеялась, – полное дерьмо! Детство наивное, мотыльковое. Все, затыкаюсь, а то меня сейчас на банальные образа (она так и сказала – не «образы», а «образа) потянет: свечки, мотыльки – белые хуйки.
– Хулиганка. – Я резко встал, не обращая внимания на легкую боль в суставах, лег рядом с Женей. – А я тоже стишок сочинил. Только что. Хочешь? «Какие у тебя ножки, какие у тебя сиси, какая у тебя попка, какая у тебя пися». Нравится?
– Ужасно.
– Я так и знал.
Помолчали немного, обнялись.
– Знаешь, я вчера на поклоне кричала «все», – сказала Женя, дыша мне в плечо.
– Что это значит?
– «Все» – это значит все. Конец. Я ушла из театра, – спокойно ответила она. – Есть такой старый театральный обычай, когда актер уходит, то после своего последнего спектакля, на поклоне, кричит «все».
– Почему же ты ничего мне раньше не говорила?
– А зачем? У нас с тобой не те отношения, Слава, чтобы обсуждать нашу трудовую деятельность.
– Странно, – пробормотал я, – я считал, что мы близки больше, чем просто в постели. Я мог бы посоветовать что-то. Ты так не считаешь?
Она приподнялась на локте, заглянула мне в глаза, улыбнулась.
– Чему ты улыбаешься? – спросил я.
– Я думала, ты врешь, а ты не врешь. Поэтому можешь считать, что я улыбаюсь от счастья, что не безразлична тебе.
– Это так и есть. Если бы ты была мне безразлична, то я больше не пришел бы к тебе.
– Прекрати говорить ерунду: «не пришел бы». Я хорошо делаю некоторые вещи, поэтому пришел бы в любом случае. Я даже кончаю от анального секса. Все только делают вид, хотя на самом деле им это не нравится и они дают в задницу корысти ради, а я кончаю.
– Черт, Женя, не заводи меня, дай передохнуть. Расскажи лучше про театр. Что там случилось?
– Костя…
– Какой Костя? Ах, ну да. Райкин…
– Костя набирает молодых студентов и делает из них актеров. Молодым все это еще интересно: репетиции по два раза в день, а вечером спектакль, когда уже вымотан до предела, а играть нужно не просто в полную силу, а еще сильней. Он же дрочит всех со страшной силой и орет, он очень требовательный. За это все его и любят. Я просто уже устала от всего этого. И ролей у меня никогда не было больших. Мне 38, и я больше не могу быть красной курицей. Я пробовалась у другого режиссера, но он сам неудачник, и я в него никогда не верила. Да и трахается он смешно. Представляешь, – оживилась она, – он когда делает это, то вот так делает рот. – Она скорчила уморительнейшую плаксивую гримасу: актриса, ничего не скажешь. – И становится похожим на моего ребенка, каким он был давным-давно, когда капризничал, и я с ним не могу… Ну ты понимаешь? Эти ассоциации с собственным ребенком. Да такого даже я… Да черт с ним!
Я отпихнул ее от себя, повернулся на бок и закрыл глаза. Можно было бы уйти сейчас от нее и не возвращаться, но я потом не смогу самому себе ничего объяснить. Нельзя ревновать к прошлому.
– Эй, ну ты чего там? – окликнула меня Женя. – Надулся, что ли?
Она постоянно рассказывала мне о своих постельных занятиях с кем-нибудь, и складывалось впечатление, что секс был тем стержнем, вокруг которого вращалась вся ее жизнь. Я не мог этого понять потому, что никогда не придавал сексу столь важного значения, но мне были неприятны ее рассказы обо всех этих людях… Я даже узнал, что, оказывается, лесбиянки трутся бедрами и все такое.