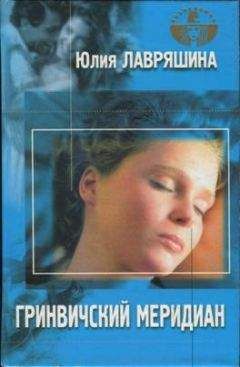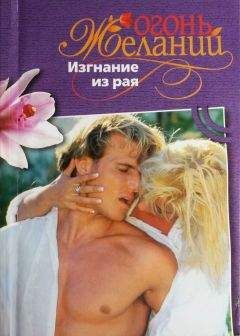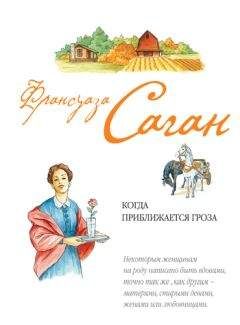Андрей Столяров - Не знает заката
И еще я понял, почему мне так трудно в Москве. Трудно, трудно, не следует притворяться перед самим собой. В Москве я чувствую себя безнадежно чужим. Не зря Аннет говорит, что я – по-прежнему петербуржец. Есть в этом известная правда. Конечно, Москва удивительна. Она, будто в сказке, которую когда-то читал, даст тебе все, что хочешь: работу, карьеру, успех, известность, благополучие. Она очарует тебя лихорадкой тщеты, блеском значительности, маревом открывающихся перспектив: захлебывается телефон, рябит в глазах от встреч и знакомств, грохочет музыка, распахиваются двери в мраморное великолепие залов. Вращается бесконечная карусель. Все, что хочешь, стоит только по-настоящему захотеть. Она не даст лишь одного: не даст ощущения подлинности этой жизни, ощущения ее правильности, ощущения серебряного воздуха бытия. А без него, как выясняется, жить нельзя. И если в Петербурге я задыхался от присутствия вечности, то в Москве от того, что ее нет вообще. Никакой лихорадкой дел этого не заменишь. Никаким конфетти не засыплешь зияющие провалы. Причем, бессмысленно Москву за это винить. Она такая, как есть, и ничем иным, вероятно, быть не способна. Мы сами ее такой сделали. Москва – это уже давно не столица, не центр государства, даже не промышленный мегаполис. Москва – это просто другая страна, другой мир, другая вселенная, пребывающая в другом мироздании: со своими законами, кажущимися нам абсурдными, со своими людьми, своими деньгами, своими правилами существования. И либо ты эти правила соблюдаешь, ты их угадываешь, и тогда вселенная принимает тебя как своего, либо вдруг замечаешь с испугом их эфемерность, напыщенность, их искусственную круговерть, и тогда, потеряв опору, проваливаешься в пустоту. Воздух московских иллюзий больше тебя не держит.
И наконец мне стало понятно, что из Петербурга я уже никогда не уеду. Я никогда не расстанусь с этими набережными, над которыми таинственно шелестят тополя, с эти в этими пустынными площадями, с мостами, отражающимися в каналах, с этими переулками, где магическая чуткая тишина преобразует существование в жизнь. И не только лишь потому, что тот, кто хоть раз вдохнул воздух вечности, уже не может обойтись без него: мир, лишенный сей ауры, кажется убийственно пресным, но и потому еще, что чем больше им дышишь, тем больше его становится. Бог людям необходим: без него они начнут забывать о «жизни небесной», но и люди богу необходимы: без их любви, без их веры он утратит свое всемогущество. Мне был нужен воздух этого города, я уже не мог представить себя без него, но и я был нужен ему: иначе кто будет воспринимать вечность из времени. Это не было осознанное решение, принятое после долгого и тщательного обдумывания ситуации. Это было, скорее, наитие, вспыхнувшее, тем не менее, с необыкновенной ясностью. Я, разумеется, представления не имел, как все устроится: где я буду жить, если останусь, на что, сумею ли найти какую-нибудь работу? Сразу же возникало невероятное количество трудностей. Однако сейчас меня это совершенно не волновало: где-нибудь буду, как-нибудь перебьюсь, что-нибудь такое себе подыщу. Не было никаких сомнений, что все образуется. «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут»… Так же, наверное, и со мной. Не стоит раньше времени тревожиться о пустяках…
Дважды за это время у меня начинал попискивать сотовый телефон. Он снова работал, и это было знаком того, что от изнанки мира мы поднимаемся к обычной реальности. Гелла меня понемногу вытаскивала. Однако, отвечать на вызовы я не рискнул. Мне и так было ясно, кто меня добивается и зачем. В первом случае звонила Аннет, и я вдруг увидел ее в обмороке вечернего офиса: полутемные коридоры, россыпи помаргивающих огней за окном, очередь машин на проспекте, отчаяние телефонных гудков, соскальзывающих в никуда. Вот она отрывает трубку от уха, бережно, очень бережно кладет ее на держатель, поворачивается, чтобы идти домой, и лицо ее – точно маска, вылепленная из немоты… А во втором случае звонила, конечно, Светка. И я тоже увидел ее, будто мне прямо в мозг транслировали телевизионное изображение. Какой-то вестибюль, отделанный мрамором, зеркала, ажурные пальмы, барьерчик, ограждающий пустой гардероб, будка охранника, приткнутая между колоннами, за распахнутыми дверями – зал с перетекающим в нем людским месивом. Очередная тусовка, выставка, презентация, вечер, посвященный чему-то. И тоже, вместо лица – маска, вылепленная из отчаяния…
Мне было мучительно жаль их обеих. Что они теперь будут делать в своем неожиданном одиночестве? Где найдут силы, чтобы его превозмочь? Как будут жить в том лихорадочном муравейнике, который представляет собой Москва? Наверное, растворятся, затеряются в нем. Я больше никогда ничего о них не услышу. Мне было от этого не по себе. И вместе с тем чувства настоящей утраты я не испытывал. Было точно в кино: фильм вроде бы обо мне, произвел громадное впечатление, может быть, даже заставил иначе на себя посмотреть, и все же – только условность, только кино. Сейчас пойдут снизу вверх титры, зажжется свет, все исчезнет…
Странное дело, раньше я думал, что жизнь в Петербурге – призрачна. Настоящая жизнь в Москве: бурлит, пенится, рождает события. И вдруг оказалось, что все с точностью до наоборот. Жизнь – в Петербурге, а в Москве – лишь иллюзия, которая распадается на глазах, испаряется, выцветает, превращается в блеклые воспоминания, уже не понять: было – не было, отвернешься, махнешь рукой, в сердце – ничего, ничего, кроме слабого сожаления…
Наконец мы повернули на Средний проспект. Здесь уже ходил транспорт, во всяком случае я увидел плывущий по проезжей части трамвай. Окна его были налиты желтизной. Попадались прохожие, которые взирали на нас с успокаивающим безразличием. Гелла, тем не менее, все время оглядывалась, сжимала мне руку твердыми, холодными пальцами.
Как будто боялась, что мы потеряем друг друга.
Вдруг резко остановилась и, повернувшись, вытянула ладонь:
– Смотри!..
Было, по-моему, около одиннадцати часов. Воздух уже потемнел, но оставался по дневному прозрачным. Видно, кажется, стало еще лучше. Тем более, что и небо сохраняло закатный бледно-зеленоватый оттенок. Словно еще не успело остыть. Отчетливо выделялись на нем – трубы, изломы крыш, выступы чердаков и мансард.
Петербургская окраинная чехарда.
Вот один из сполохов погас и стало сумрачнее.
– Смотри, смотри!..
В дальнем створе проспекта, где перспектива, как на рисунке, смыкалась, где дома были ниже, а купол неба обширнее и, видимо, прозрачнее от жары, медленно, словно проступая из небытия, вопреки всем законам природы зажглась крупная сияющая звезда…
У меня дрогнуло сердце.
– Не знает заката… – сказала Гелла.
Квартира ее находилась на самом верху. Мы благополучно достигли пятого этажа, где перед дверью к моему удивлению был даже постелен соломенный коврик, и, отперев замок, который весело щелкнул, оказались в двух крохотных комнатках, соединенных голым проемом.
Первая, она же прихожая, одновременно являлась и кухней и была так тесна, что двое людей в ней едва-едва помещались. Я, во всяком случае, сразу же задел угол полочки, прикрепленной к стене. А из второй, с парой чистеньких окон, открывался вид на чересполосицу крыш, на высовывающиеся из-за них верхушки деревьев, на квадратик двора, который был впрочем практически неразличим, на громадную панораму неба, подернутого размывами зелени.
Только здесь я позволил себе перевести дыхание. А Гелла, видимо, почувствовав мое состояние, тронула меня за плечо:
– Успокойся… Не надо… Все уже закончилось… Ну – почти все…
Кажется, я догадывался, что означает это «почти».
На самом деле ничего не закончилось.
И еще я догадывался, почему Гелла напоминает мне ту девушку, с которой я был когда-то знаком. Ту, которая каждый вечер приникала к окну и, не отрываясь, смотрела на меня через двор. Ту с которой мы целовались на сгинувшем ныне канале.
Теперь догадаться было легко.
– Ничего странного, – подтвердила Гелла. – Я – такая, какой ты хочешь меня видеть.
И через секунду добавила:
– Если ты, конечно, этого хочешь…
Она могла бы не спрашивать.
Это были удивительные минуты. Сходили на город светящиеся хрупкие тени. Начинала сиять волшебными отражениями вода в каналах. Распускались в Летнем саду кувшинчики асфоделей. У меня бухало сердце – это, цокая копытами по асфальту, ехал вдоль обморочной улицы всадник на медном коне. Властные глаза его были выпучены.
Гелла подняла руку и погасила в комнатах свет.
– Задерни шторы, – сказала она. – Или – не надо; и так – темно…
Я не слишком удивился тому, что предстало моим глазам. Я как будто подсознательно ждал чего-то такого. В комнате теперь царил полумрак. Очертания стен, углов, мебели угадывались только по сгущениям темноты. Призрачное сияние окон не помогало. Оно без следа, как сон, впитывалось в помутившийся воздух. И в этом расплывчатом, зыбком, неустойчивом сумраке, в этом настое, образованном, вероятно, дремой целых столетий, фигура Геллы немного светилась: нежно-льдистой прохладой, какая, вероятно, исходит от вечности. Светилось ее лицо, где влажным беспокойным мерцанием выделялись глаза, светились плечи, казалось, подтаивающие от июньского зноя, слабо светились руки, подчеркивающие тем самым контуры всего тела. А когда Гелла подняла ладонь и, вероятно, смущаясь, поправила чуть взвихренные на концах, темные волосы, за пальцами ее протянулись трепещущие световые следы, будто вспыхивали и тут же гасли просверки лета.