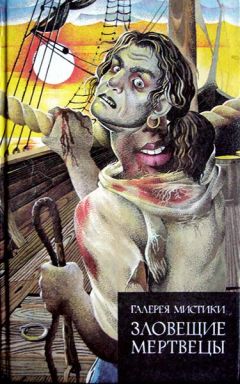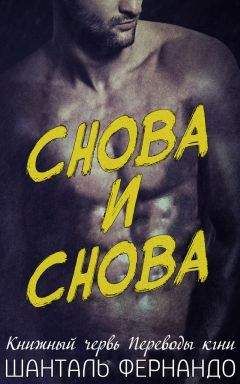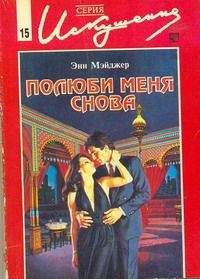Андрей Коровин - Ветер в оранжерее
Ей мешали, но она добилась тишины (немного неловкой — все поняли, что Зоя ведёт к какому-то тосту) и прочла до конца.
Отражая волны голубого света,
В направленьи Ниццы пробежал трамвай.
— Задавай вопросы. Не проси ответа.
Лучше и вопросов, друг, не задавай.
Улыбайся морю. Наслаждайся югом.
Помни, что в России — ночь и холода,
Помни, что тебя я называю другом,
Зная, что не встречу нигде и никогда…
Глаза у Зои Ивановны сильно и черно заблестели, вся она как-то задышала, подняла свой стакан и сказала:
— Я хочу выпить…
— Ну и правильно! — заорал, вскакивая, Башмаков.
7
Чуть больше, чем спустя двое суток, я увидел Зою Ивановну лежащей в углу комнаты Серёжи Черноспинкина на пружинном матрасе от сломанного раскладного дивана. Чудесные волосы её, уже начавшие терять свой блеск, были разбросаны по набитой тряпьём наволочке, которая заменяла Черноспинкину подушку. Грудь Зои Ивановны была открыта и как-то жалко белела на смуглом теле, и я помню, что успел полубессознательно подумать, что правильно я всегда считал, что в Зое течёт какая-то доля восточной крови, — учитывая, что был декабрь, необыкновенно долго держался на теле летний загар. На ней были чьи-то синие шаровары, и от колен до ступней ноги её были укутаны зелёным ворсистым (бывшим ворсистым) одеялом, усыпанным пеплом и спадающим с дивана на затоптанный пол. Передо мною было некое подобие русалки — с плавником в виде одеяла.
Беззубый и сильно взъерошенный Черноспинкин, открыв мне дверь, тут же запер её за мной и, сильно шатаясь, прошёл к столику, на полу у которого среди множества пустых бутылок стояла початая бутылка какого-то креплёного вина и, кажется, ещё парочка полных, закупоренных. Стаканы тоже стояли частью на столе и частью на полу.
— Давай выпьем, — низким замогильным шёпотом сказал Черноспинкин.
Голый по пояс, в тапочках на босу ногу, сизовато худой, с огромными подглазными мешками на тонкокостном лице, — хорошо видными в профиль, пока он стоял против окна, не завешенного никакими шторами, — Серёжа Черноспинкин выглядел страшно. Я знал, что это ещё не предел, но всё же повторил внутренно: “Серёжа, Серёжа!”. Сердце часто и тоскливо забилось, так, как будто я был Серёжиной мамой, только страдающей довольно сильным похмельем.
За день до этого я, что называется, выскочил, но не окончательно, не сразу, как это делал, скажем, Злобин, а начал решительно уменьшать дозу, чтобы за два-три дня прийти к нормальному — хотя бы с виду — человеческому состоянию. Поэтому выпить я согласился, но предупредил:
— Только не больше полстакана.
— Что вы там возитесь? — заскрипела внизу, поворачиваясь, Зоя. Груди её свесились на сторону, и сильно выпятилось бедро в шароварах, из которых торчала белая резинка. — Идите сюда… Мне скучно…
Серёжа гадко улыбнулся, оглядываясь на Зою Ивановну.
— Сейчас, — сказал он, взял бутылку, но разлить вино по стаканам у него не получалось, и мне пришлось помочь ему.
8
Воля Черноспинкина имела какой-то порок, врождённый ли или приобретённый, об этом никто уже никогда не узнает.
Очевидно только, что Серёжа от природы был наделён волей необыкновенной силы и умом поразительной точности и глубины. Литературный слух его был абсолютным, из-за чего его несколько побаивались. Однако всё это — и волю, и ум (выделявший его, кстати, из всех — как сомнительных, так и настоящих талантов, вращавшихся вокруг тяжёлого ядра литинститута) — он с необъяснимой одержимостью стремился пропить.
В то время, в которое происходят ключевые события настоящего повествования, Серёжа, как я уже упоминал, выглядел страшно. У него не хватало нескольких передних зубов, он пытался как-то отвлечь внимание от этого недостатка и время от времени отращивал усы, но всё равно — результат это давало малоутешительный, потому что с усами необъяснимым образом Серёжа начинал походить на человека с заячьей губой. Переносица его была искривлена переломами, под глазами свисали огромные, почти никогда не сходившие, мешки, волосы от недостатка витаминов высохли и свалялись и, даже вымытые, производили какое-то тифозное впечатление. Тело его было измождено, навряд ли он, при своём ненизком росте, весил более пятидесяти килограммов, и было удивительно, с каким упорством в этом теле живёт неумолкающая похоть. Ещё более я удивлялся тому, что эта похоть продолжала находить довольно привлекательные объекты для своего удовлетворения. Кроме Зои Ивановны (которая как бы не считалась), я знал трёх-четырёх симпатичных студенток, которые, по непонятной мне причине, решались скрашивать ночи (или дни) этого циничного и глубокомысленного монстра.
Черноспинкин, как и все почти, принадлежавшие к своеобразной литобщаговской когорте избранных (или отверженных, как посмотреть), был значительно старше обыкновенного студенческого возраста, и у него было прошлое.
В этом прошлом он жил в каких-то диковатых северных краях, учился в кулинарном училище, занимался боксом и был, как он иногда с печалью и неторопливым достоинством вспоминал в очень пьяном состоянии, неотразимым красавцем. Однажды, кажется год спустя, мне случайно попали в руки фотографии двадцатилетнего приблизительно Черноспинкина. На них был спокойно улыбающийся поджарый парень, несколько сутуловатый, с сухими сильными плечами и открытым, правильным и мужественным лицом. “Так он, получается, не врал…”— подумал тогда я.
Когда-то Черноспинкин писал неплохие стихи и мечтал, что, может быть, снова будет писать. Он любил Георгия Иванова и Ходасевича, последнего, скорее всего, за родство во вкусах и некоторую жёсткость. А об Иванове он говорил: “Умён, но сдержанно изнежен”.
Серёжу Черноспинкина уважали. Старая гвардия по старой памяти, а новые люди и молодёжь, — подражая этой самой старой гвардии.
Уважение это шло оттого, что Серёжа был неизменно прям и бесстрашен в выражении своего мнения или отношения к кому бы то ни было. Вежливости в обычном понимании этого слова от него нельзя было ожидать. Вертлявых и выкручивающихся он различал с первых же секунд и как бы складывал их на отдельную полку, для них предназначенную. Чем больше он пил, тем многочисленнее роились вокруг эти вертлявые и выкручивающиеся, но Серёжа никогда не становился с ними на одну ногу, а только словно доставал их с отведённой им полки и снова укладывал назад, когда отпадала необходимость в общении с ними.
Были, конечно, времена, когда существовал (подобно салону Гамлета) салон Черноспинкина, в который допускались только прошедшие строгий отбор. Этот салон, в сущности, Черноспинкина и погубил. Все лучшие слишком много пили и, приезжая в общежитие со всех концов страны, стремились попасть к Серёже. Он был по-своему (как-то строго, что пугало новичков) гостеприимен. Люди приезжали, пили по-чёрному несколько дней, затем покидали общагу и где-то там у себя отдыхали и трудились, а к Черноспинкину приезжали новые, и Черноспинкин никогда от пьянки не отдыхал…
В тот день, после того, как я разлил у стола по мутным стаканам чёрно-красное вино, мы присели на край сломанного дивана, причём я скрестил ноги по-турецки на полу, а Черноспинкин вытянул свои вперёд, облокотившись на Зою, как на подушку.
Мы выпили. Потом налили ещё. Зоя Ивановна, шумно выхлебав вино, упала на наволочку с тряпьём. С большим трудом я отказался пить дальше, но почему-то всё не уходил, мне ещё тяжело было оставаться одному, похмельная подавленность была ещё очень сильна.
Затем Черноспинкин стал мычать, широко раскрывая рот с провалами зубов и для выразительности поднимая стакан с остатками портвейна выше головы. Мне это было хорошо знакомо. В определённый момент Серёжа терял дар речи, хотя после этого ещё мог некоторое время пить и двигаться.
Помычав, он уронил стакан и лёг рядом с Зоей, толкнув меня ногой. Зоя Ивановна вдруг потянулась ко мне, схватив меня за плечи, приподнялась и полезла дрожащей рукой в мои брюки, приговаривая: “Присоединяйся к нам, присоединяйся…”.
Кажется, она обиделась, когда я встал и ушёл.
9
На следующий день я снова оказался, совсем уже непонятно для каких причин, в комнате Черноспинкина.
Угрызения трезвеющего человека и чисто физические муки гнали меня по этажам, не давая сидеть на месте. Внутри стоял какой-то непрекращающийся зуд, и в мозгу наступала поскрипывающая ясность — всё было как бы в мелких ссадинках, во всём было какое-то что ли царапание, словно трезвый Андрей Ширяев, по ошибке заживо погребённый, царапался изнутри сквозь тончающие стенки алкогольного склепа.
Черноспинкин встретил меня в коридоре в мятой, незаправленной в брюки и незастёгнутой рубашке, с грязным полотенцем через плечо и со сковородкой в руках. Глаза его превратились в матово отблескивающие чёрные шарики с совершенно собачьим выражением боли. С несколько злобной строгостью он промычал что-то вроде “заходи” и, плавно (как мим) выбрасывая ноги, двинулся по направлению к кухне.