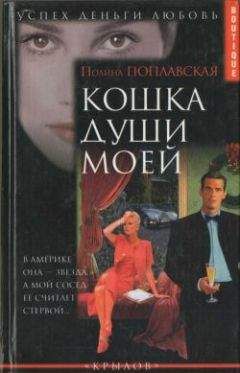Эдмонда Шарль-Ру - Забыть Палермо
Странные воспоминания сохранились у меня от совместного обследования ресторанов. Иной раз я вспоминаю об этом с нежностью. Почти год отняло у нас это занятие, оно походило на долгий карнавал. С нами бродил фотограф, добродушный англичанин, оперировавший себе нос. Помнятся молодые люди, которые, узнав Бэбс, радостно ее встречали. Они принадлежали к той породе индивидуумов, которых называют «play boys» — повесы, малообразованные парни, пустые, но добросердечные и умеющие болтать как заводные. Бэбс болтала с ними о том, о сем без передышки. Всегда одно и то же. Легкомысленные историйки, одинаковые жаргонные словечки и любопытство обывателей. Я слушала, и, хотя Бэбс порой раздражала меня, все же я была ей благодарна. Что бы со мной стало без нее? Разве я нашла бы выход из положения? И все же в ее компании я ощущала тяжелую пустоту. Могильную пустоту. Весь год бремя одиночества изводило меня. Тяжело мне жилось тогда в Нью-Йорке. Бытие теряло свой смысл, и это могло меня доконать. Потерять цель в жизни — самое опасное. Как будто бы задержался в летящем стрелой скором поезде, утратил общение с действительностью, время ушло, и уже поздно вступать в битву.
И все же стойкость мне не изменила. «Ярмарка» была для меня только запасным выходом, временным пристанищем. Порой мне не хватало чистого воздуха в атмосфере элегантного бизнеса Флер Ли, охватывало удушье — до того все надоедало. Но у меня была отдушина — мой остров, я всегда могла унестись туда мысленно. Снова вдруг возникали знакомые хриплые крики, шум, визг, лихорадочная суета; кругом меня появлялись детишки — дрессировщики ящериц и светляков, собиратели душицы; моя вселенная возрождалась, я вновь слышала голоса, жалующиеся на горькую нищету, голоса высокие, низкие, пронзительные, как у муллы, зовущего на молитву в Аравии. «Я вами живу, — думала я. — Для вас берегу силы и ненависть. Вы воодушевляете меня, помогаете жить, вы моя надежда, не оставляйте меня».
Только это помогало мне не терять равновесия. Но так не просто вести двойную жизнь — какое это нелегкое дело.
Бэбс уже кое-что поняла и не скрывала своих мнений, «Никогда ты не станешь нашей», — говорила она. Все, что могла, она для меня уже сделала. У нас была общая комната, одно ремесло, общее место службы, общие впечатления, накопившиеся за год, и, наконец, анкета, которую мы вели по ресторанам всего города. Месяцы поисков. Бесконечные посещения всех этих шумных местечек, известных своими «фирменными» блюдами, пышно рекламируемыми в женских журналах. Бэбс справлялась с таким заданием просто на диво!
Как все это было одинаково: торопившийся подойти к нашему столу управляющий, оркестр, венгерский, венский, мексиканский или еврейский, не имеет значения, начинающий играть, как только мы делали первый глоток, метрдотель, следивший за малейшим нашим жестом… Я уставала от этой постоянной помпы, меня смущали эти сцены, вызванные нашим появлением, и как-то однажды я сказала:
— Бэбс, тебя чествуют, прямо как языческое божество. Нас осыпают цветами, дарят безделушки за весьма мелкие услуги. Кто знает, может, последуют авторучки и даже автомобили? Попробуем, хочешь? Скажем, что для того, чтоб фигурировать в числе «хороших адресов» журнала «Ярмарка», надо, чтоб ледяная сосулька в нашем коктейле была не иначе как из розового бриллианта, и самого подлинного. Пребольшого граненого бриллианта, а?.. Попробуем?
И я вспоминаю Бэбс, как она хохотала, искрилась от радости, хлопала в ладоши. Наконец-то я признала значительность ее персоны. Ничто не могло ее так обрадовать. Но если б я хотела быть откровенной, то сказала бы ей так: «Эти люди ведут себя, как деревенские проститутки, не предложить ли им еще разоблачиться?», она бы вспыхнула от злости, Таким образом, некоторое малодушие мне помогало с должной компетенцией пребывать в роли редактрисы из «Ярмарки». Внезапные порывы искренности у меня уже исчезли, скрытность стала привычкой и служила самозащитой.
Но вернемся к нашему кругосветному путешествию, к этой веренице безумных вечеров, которые Бэбс возглавляла со свойственным ей авторитетом. Мы ужинали то в Мексике, то в Турции, каждый вечер переходили из одного полушария в другое, меняя столицы. Только по выходе из ресторана мы приходили в себя, город с его длиннейшими улицами, пестрыми отблесками неоновых вывесок на асфальте возвращал нам здравый смысл. Заканчивался очередной «гастрономический вояж», как выражалась Бэбс, и эта нью-йоркская фантасмагория, многоцветным ковром возникавшая перед нами, помогала нам убедиться, что мы дома и наши путешествия иллюзорны. С меня было более чем достаточно, порой я молила о пощаде. Но всегда где-то на дальней улице славилась (Бэбс на этот счет была удивительно добросовестна) какая-то шведская или индийская кухня, с которой предлагали ознакомиться, и нам приходилось идти туда. Наша жизнь превратилась в затянувшееся приключение, но Бэбс находила ее абсолютно естественной. От одной страны к другой бродила она со своим блокнотом в руках, ни о чем не задумываясь, вроде тех персонажей из пышных балетных спектаклей, которым достаточно сделать одно па, чтоб элегантно скользнуть из снежной Кубани в пески Востока.
Что еще удалось мне заметить в Бэбс во время этих забавных путешествий? Она была неотделима от «Ярмарки», от широких возможностей этого журнала, от его читательниц. «Ярмарка» была нужна ей, как собственная кожа. Иной раз это пренеприятно выглядело. Она привыкла говорить с отталкивающей уверенностью. А вопросы, которые она задавала без малейшего смущения: «Что у вас, настоящий французский ресторан или же только in the French manner?[17]» А чтоб она не сомневалась в национальной подлинности ресторана, метрдотелю следовало говорить по-английски с акцентом французского актера Шарля Буайе, а меню обязано было содержать среди дежурных блюд улиток и лягушек. Бэбс вставала и уходила, если этих блюд не было.
Не один раз мне хотелось напомнить ей о том, что ее секретарши чересчур усердствуют. Невидимые трубы заранее успевали известить о часе нашего прибытия. «Это мешает нашему обследованию, оно становится менее интересным, — говорила я. — Ведь было задумано иначе». Она слушала меня с обычным вежливым видом, а потом отвечала: «К чему нам инкогнито? Терпеть не могу». Когда она попадала в какой-нибудь ресторан и не знала, чем он славится, то обычно заявляла: «Приготовьте нам что-нибудь свое…» Потом терпеливо ожидала. Я своими глазами видела, как она не моргнув поглощала баклажаны с вареньем в одном еврейском ресторане, а в подвале на 51-й улице, где повар утверждал, что он грек, преспокойно занялась фаршированными кишками ягненка, нанизанными на страшенные вертела.
Иной раз мы писали совместно, советовались, сопоставляли наши мнения. Я предоставляла Бэбс начало. Ее работа была деликатней, чем моя. Мне надо было описать интерьер, освещение, рассказать, что исполнял оркестр. А Бэбс следовало описать кухню и обслуживание. Основная ответственность была на ней. Я тайком наблюдала, как она, склонившись над записной книжкой, описывала качества гуляша, телячьих ножек в желе, запеченных молочных поросят, супов в горшочках, венских шницелей, шиш кебаба и после очередного блюда давала краткий диетический комментарий, например «вредно для фигуры» или «трудно усваивается»…
Через несколько недель Бэбс пришла к заключению. Есть две формы питания. Одна — рациональная, международная, апробированная: бифштекс, жареный цыпленок, салат, кофе с молоком. Другая, более легкомысленная, — любопытство к кулинарным вкусам разных народов, чаще всего отсталых народов. «Самых отсталых». Это почти всегда кухня бедняков. Люди расхваливают достоинства супа из турецкого гороха, потому что зеленый горошек им не по средствам. Они злоупотребляют соусами — стало быть, это выгодно. Нечего возражать! Трюк в том, что если густо поперчишь, то незаметно, что мясо неважное, а когда скрипки поют, посетитель и вовсе проглотит все подряд. Вот так-то. То, что зовется в Мексике «чиле», в Венгрии называется «паприкой». Вот в чем дело…
Как мне хотелось с ней поспорить!
Что это за мания у нее все делить по категориям, считать важной сущую ерунду. Вдруг она заявляет, что ресторан княжества Лихтенштейн «безумно интересен». Слово «интересен» говорится с улыбкой, похожей на реверанс в честь маленького княжества и его монархов. Пусть будет так. Ресторанчики «Теленочек Жаклины» пли «Яблочное суфле у Жозефа» она описывала, как «более французские, чем сыр «камамбер», или «ужасно парижские». И это мне было безразлично. Но оленье жаркое без костей, которым она наслаждалась в ресторане «Габсбург», мне опротивело еще и потому, что она не переставала говорить о нем. Некоторые слова на нее действовали с невероятной силой. Она и произносила их особо, как будто это были слова не только звучные, но еще и вкусные. На этот раз совсем не олень показался ей вкусным словом, но «Габсбург». Почему? Ведь не Карла Пятого она ела там. Это меня безмерно раздражало. Но разве говорят о таких пустяках? А кроме того, любые возражения вызывали у нее слезы. Пришлось молчать.