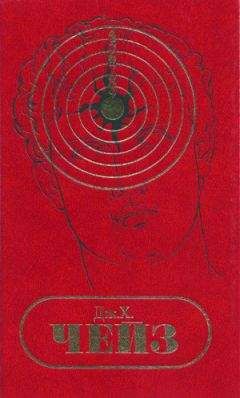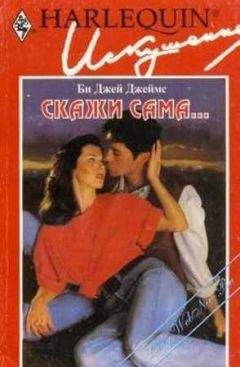Джеймс Мик - Декрет о народной любви
Поднялась, вновь наполнила фужер мужчине, затем себе, снова присела. Скрестила ноги и снова развела, чтобы глянул. И впрямь посмотрел. Интересно, чист ли он? Да и не всё ли равно?
— Странно, что вы обнаружили дагеротип, — произнесла Анна. — Я ведь его одному из местных дарила. Балашову Глебу Алексеевичу. Хозяин площадной лавки. Так долго упрашивал подарить карточку, и надо же — потерял!
Самарин кивнул.
— Ты поступила очень великодушно, подарив ему карточку.
Покраснев, она торопливо добавила:
— Балашов — он милый, но очень уж узких взглядов! Вы же знаете, наверное, здесь, в Языке, не вполне православные люди.
— Признаться, не знал.
— Жаль, патефона у меня нет. А то бы музыку послушали…
— Так есть же гитара, вот она.
— Расстроена совсем.
— Я мог бы перенастроить.
— Признаться, я скверно играю.
Кирилл поднялся, ухватил гитару за гриф, обхватил рукою, пробежался пальцем по струнам. Подошел, протянул Анне.
— Превосходно отлажена, — заверил гость. — Должно быть, ты хотела, чтобы я подал, раз о музыке заговорила. Играй же.
— Хорошо. Вы садитесь, — предложила хозяйка, кивком указав на свободное место рядом с собою на канапе и пристроив инструмент в руках. Перебирала струну за струной, подкручивала колки. Покраснела, когда канапе прогнулось под грузом мужского тела.
— Я скверно играю, — повторила.
— Все играют скверно, — заверил Кирилл.
Украдкой глянула на него. Сидел, спиною прислонившись к изголовью канапе, руки за головой, глядел с улыбкой. Серебряной рыбешкой юркнуло, проскользнуло от лона к груди щекочущее, волнующее чувство. Свет желания в своих глазах хотелось от Самарина скрыть; слегка прикусила нижнюю губу, чтобы не улыбаться слишком явно.
Принялась перебирать струны. Мужской романс, который часто играла для Алешеньки, старалась выводить нежнее обыкновенного, скрадывая жесткий походный ритм:
В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал:
И, в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел.
Посреди грозы военной
Счастие найти хотел!..
Но судьбой гонимый вечно.
Счастья нет! подумал я…
Друг мой милый, друг сердечный,
Я тогда не знал тебя!
Ах, пускай герой стремится
За блистательной мечтой
И через кровавый бой
Свежим лавром осенится…
О мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Перестала, поклонилась и расхохоталась.
— Были и дальше строчки, да я запамятовала, — призналась женщина под аплодисменты улыбающегося пленника. Протянула гитару Кириллу.
— Теперь вы сыграйте, — попросила.
— Я знаю только один романс, — произнес Самарин.
— Что ж, хороший, должно быть, — улыбнулась Лутова. — Играйте же!
Пристроив гитару, Кирилл заиграл, не тратя времени на настройку инструмента или же проигрыш пустых аккордов. Песня его не была ни веселой, ни грустной. Анна не понимала лада, в каком звучал романс. Подумалось: «В искреннем» — и улыбнулась.
Самарин пел:
Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у нее одной молю ответа,
Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не надо света.
Лутова вскочила, захлопала в ладоши, уселась и быстро погладила Самарина по виску, по плечу.
— Еще! — попросила.
— Я же сказал, что других романсов не знаю…
— Тогда снова это же сыграй!
Красные
Чехи спали вокруг костра, сменяясь каждые два часа. Муц пытался сперва увернуться, стряхнуть с себя руку Нековаржа, когда тот будил офицера. Голова и тело точно разлетались врозь по пустой пропасти пространства.
Нековарж не унимался, и Муцу пришлось сесть. В глаза точно насыпали соли, всё плыло. Снаружи в пещеру пахнуло холодом, нагло коснувшимся шеи, и дурнота отступила. Велел сержанту спать, а сам подвинулся к огню поближе.
Беловолосый тунгус принес хвороста. Муц подбросил топлива в костер. Снаружи вновь повалил снег.
Броучек спал, укрывшись шинелью, положив под голову вместо подушки камень, и имел вполне довольный вид. Тунгус преклонил голову на сплетенные руки. Даже во сне вид у туземца был забитый. Неужели шаман дурно с ним обращался? Заглянув к себе в душу — единственный инструмент мистического хождения с лозой в поисках нравственных качеств усопшего, — решил, что, пожалуй, нет. Интересно, неужели чехи так ужасно обходились с колдуном, неужели им было совершенно безразлично, умрет старик или нет, точно ли погубило тунгуса пристрастие к спиртному, точно ли туземец сам погиб?.. Посмотришь в этакие лица — шаману ли, беловолосому ли — и будто наслушаешься рассказов, как им доводилось порой пировать, кутаться в меха, а как же иначе, но и от холода наверняка настрадались, и от голода, и охотиться им доводилось, да и на них охотились в сибирской тайге… И думаешь: притерпелись. Но те, кому выпало меньше страданий, всегда думают так о страдавших сильнее — что привыкли и что обстоятельства больше не мучают жертв.
Никогда к страданиям не привыкают. Правда, тяготы учат утаивать страдания.
Стоило совести вспыхнуть — и вот уже разгорелся огонь и понеслись языки пламени. Муц подумал о Балашове, и вновь офицеру сделалось совестно при воспоминании о том, как требовал от скопца, чтобы уговорил жену и сына навсегда покинуть город. Если вернется в Язык, попросит у Глеба прощения. Нет, мало! Совета. С кем еще советоваться об Анне, как не с мужем, любившим женщину плотской любовью и любящим, если верить его словам, до сих пор любовью иной? Нужно прийти к Балашову, повиниться, расспросить о любви.
Над Нековаржем, над его поисками тайных механизмов, запускающих машинерию женской страсти, посмеиваются, но как же отстал от сержанта Муц — подчиненный хотя бы ищет ответа, а он…
Пожалуй, они с Глебом подружатся. Матула и Самарин, два полюса городского сумасшествия, — вот кто враги. Ничто не изменится, покуда капитан не даст чехам покинуть Язык и покуда Анну влечет к каторжнику. Вряд ли женщина, муж которой оскопил себя во славу Божию, потерпит в любовниках убийцу и людоеда, сожравшего собрата по каторге.
Муц понял, что улыбается. Совершивший чудовищнейшее из преступлений всегда уязвим, не только перед чудовищнейшим наказанием, но и перед чудовищнейшими насмешками. Еще не утихла в Европе война — и вот, будьте любезны, шутки о демобилизованных оттого, что мошонки их раздробило ядрами и шрапнелью, ходят по всему Северному полушарию. А что остается супругам? В некотором роде положение их гораздо более незавидно, чем участь Анны Петровны. Нет, пожалуй, не так уж и весело. И разве не может оказаться, что увечье, нанесенное мужем себе же, сделало женщину невосприимчивой к ужасам, захватывающим воображение остальных людей — например, к истории о случае людоедства в лесу? Возможно, Самарин станет утверждать, будто убил и съел Могиканина в целях самообороны, сопоставляя поступок свой с жестокостью удара, нанесенного Балашовым себе самому и своим родным. Такого разбойника, как Могиканин, все равно ожидала бы виселица. Где-нибудь между Владивостоком и Сан-Франциско, пожалуй, еще и добровольное общество бы основали по подписке за то, чтобы преступников съедать. Гораздо прогрессивнее, да и безотходно. В Америке приговоренных поджаривают на электрическом стуле…
Нет, дело не в самом акте людоедства, а в том, как поступил Самарин потом, в действиях его, наблюдаемых беловолосым сквозь завесу наркотического дурмана, когда тот увидел русского посреди тайги, днем, точно демона, стоящего в тунгусской преисподней посреди полей пепла и золы. Вырезать на лбу у человека слово… Муц сам видел надпись. И способности Самарина скрывать истинные чувства, держа веером раскрытой колоды все опущения свои и скрывая за ними истинное лицо, лицо игрока, раздающего карты.
И всё же с трудом верилось, будто каторжник способен на подобную дикость. И если русский убил Могиканина и съел, чтобы удался побег из Белых Садов, то кто же прикончил Климента, кто вырезал букву на лбу у мертвого офицера? Не скрывался ли в лесу и третий беглец?
Теперь подобные вопросы, которыми могло задаваться окружение Муца, отступали перед красными — стихией, преобразившейся с тех пор, как Муц повстречался с нею в последний раз. Тогда, в 1918-м, красные ухватили Идею. Теперь же Идея ухватила былых владельцев своих, и эшелоны, и страну. Муцу из скудных сведений было известно: те, кто некогда Идей овладел, так и не пришли к согласию по поводу ее сущности; то же, что некогда являло собой Идею, и то, что завладело ныне и людьми, и бронепоездом, и самой страною, вряд ли намерено долго мириться с подобным положением вещей.