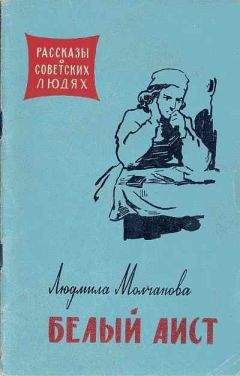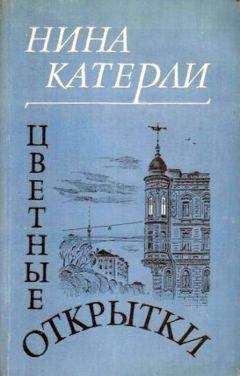Кристиан Барнард - Нежелательные элементы
Он остановился за квартал от ее дома, прикурил сигарету от автомобильной зажигалки, и это простое движение вернуло его к тому, о чем он почти два часа старательно избегал думать.
Мой отец умер.
Все остальное — лишь попытка спрятаться, уйти от этого неотвратимого факта. Потому-то он и оказался здесь, точно птица, которая, сделав два-три словно бы бесцельных круга, безошибочно летит к себе домой.
Так вот что? Потребность вернуться домой?
Он вспомнил, как такое же безумие гнало его (странно — тоже в поисках забвения?) утром после того, как он познакомился с Элизабет, а потом осматривая полуторагодовалую цветную девочку, которую так изуродовали люди.
И снова его лихорадочные мысли изменили направление: опять он увидел унылый зал суда, почти ощутил его запах, — зал, где он давал свидетельские показания. Звероподобного насильника с лицом тупицы приговорили к двум годам тюрьмы. Адвокат ссылался на то, что его подзащитный не полностью отдавал себе отчет в своих действиях, и сумел доказать, что в тот момент он был одурманен алкоголем и наркотиком. Судья ни словом не обмолвился о необходимости защиты общества.
И Боту следовало бы напиться, иронически подумал Деон. Быть может, тогда они не признали бы необходимым запирать его на три года.
Он потушил только что прикуренную сигарету и вылез из машины, громко хлопнув дверцей.
Лишь когда он обошел «фольксваген» и две женщины средних лет, направлявшиеся к автобусной остановке, замолкли на полуслове и как-то странно посмотрели на него, он сообразил, что забыл переодеться — операционная роба, шапочка, штаны, заправленные в белые резиновые бахилы. Но их удивленный и даже испуганный взгляд не смутил и не рассмешил его.
Мой отец умер.
И когда Элизабет открыла ему дверь, он сказал:
— Мой отец умер.
Она побледнела. От неожиданности? Она похудела с тех пор, как они виделись последний раз. Когда это было? Он не мог вспомнить.
Она прижала руку к горлу.
— Твой отец…
— Умер, — сказал он гневно. И без перехода: — Где Филипп?
Филипп стоял здесь же, одетый в черное. В предвидении траура? Филипп озабоченно хмурился.
Троим в крохотной прихожей было тесно. Казалось, они заняли все свободное пространство. Кто-то был лишним.
— Мой отец умер, — с яростью сказал он Филиппу.
Филипп и Элизабет переглянулись. Он подумал: секреты. У них секреты. И опять пришел в ярость. Им ничего от него скрыть не удастся. Он знает о них все. Больше никаких секретов, нет.
Он вдруг заметил, что они оба одеты как для улицы, хотя еще только рассвело. (Или его привело сюда подсознательное желание застать их в постели, увидеть сплетение двух тел — коричневого и белого, чтобы они не могли ничего отрицать, чтобы нашлись жертвы, на которые он мог бы обрушить свой гнев?)
Деон устало помотал головой. Он сам не понимал, чего хочет. Элизабет заметила это движение.
— Входи, Деон. Входи же. Ты совершенно…
Неловко волоча ноги в резиновых бахилах, он прошел мимо Филиппа в знакомую комнату. Тахта-кровать по-прежнему стояла напротив окна.
Не надо ему было приходить сюда. Его и здесь предали.
Ему нужно одиночество. Только так он еще может вытерпеть.
Он повернулся, метнулся мимо Филиппа назад в прихожую, чтобы уйти. Филипп удержал его. Он попытался стряхнуть с себя эти руки. Но его держали крепко.
— Послушай, — сказал Филипп спокойно, — не надо так.
Внезапно он обрел хладнокровие, способность рассуждать и контролировать поступки.
Филипп и Элизабет.
Нет. Не то. Филипп и Деон.
Вернее, Филипп против Деона, потому что они соперники, всегда были соперниками, и притворяться, что это не так, глупо. Их разделяет слишком многое: все то, что отличает сына богатого белого фермера от сына его цветного слуги. А связывало их лишь одно — прочно, как рок, — соперничество, которое было выше рас и классов.
Это началось еще в детстве, продолжалось, когда они стали подростками, и вспыхнуло вновь, едва они опять встретились, словно никогда не угасало. Так длилось и дальше: очко, выигранное здесь, преимущество, потерянное там, из года в год неподозреваемая, но неутихающая борьба за то, чтобы окончательно взять верх.
И вот теперь она достигла высшего накала, привела к открытому столкновению (он только сейчас осознал это, да и он ли один? Конечно, нет) из-за самой классической и самой банальной причины — из-за женщины.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он Филиппа неприязненно. — Тебе здесь не место.
Филипп разжал руки и отпустил его. Но ничего не сказал. Вместо него заговорила Элизабет.
— Что ты имеешь в виду?
Она спросила это резким тоном, и Деон подумал, что с тех пор, как они виделись в последний раз, она стала как наточенное бритвенное лезвие.
— Почему он здесь? — спросил он, как обвинитель.
— Это мое дело. — Ее пальцы были переплетены, и она смотрела на свои ладони, точно надеялась прочесть разгадку тайны.
— Скажи, чтобы он убирался.
Она побледнела еще больше и сказала ледяным тоном:
— Я его люблю, ты можешь это понять?
Его захлестнул гнев, безумное бешенство, но он решил скрыть это. Он одурачит их обоих.
— Любишь? — Он презрительно усмехнулся. — Любишь… — И короткая пауза объясняла все, так что лишним оказалось даже подчеркнутое ударение, когда он докончил: —…его?
Он ждал взрыва ненависти и отвращения, но она молчала. А Филипп стоял в дверях, точно вырезанная из дерева вещая фигура в сумраке и тишине леса.
Деона охватило гнетущее ощущение, что он вмешался во что-то, чего не понимает, и что он лишний. Словно они скорбели на похоронах, а он здесь был посторонним, тупым и развязным наглецом. Но все равно, он не уйдет.
— Любишь его? — повторил он. — Ты сошла с ума. Ты подумала, куда это тебя заведет? Ты сошла с ума, Лиз. Неужели ты этого не понимаешь?
Она устало покачала головой.
— Не знаю.
Это было проявлением слабости, готовности сдаться, и он ухватился за это.
— Лиз, я люблю тебя. Поверь, я люблю тебя.
Он сказал это, осуществляя коварный замысел породить смятение, запутать их. Но все-таки собирался ли он сказать это?
Она никак не реагировала и просто повторила, как автомат:
— Не знаю.
Филипп, высокий, прямой, вдруг сделал резкое движение, словно наконец ожила резная фигура и сошла с каменного пьедестала. Он даже улыбнулся, механически растянув губы.
— Мне кажется, ты не понимаешь, — произнес он вежливо и терпеливо.
Деон рывком повернулся к нему, весь напружинясь, как змея перед броском.
— Я все прекрасно понимаю, — отрезал он со злобой. — Мне совершенно ясно, что происходит. Флип, сын дядюшки Пита и тетушки Миеты, готтентотов, служивших у моего отца, вообразил, будто может крутить с белыми девушками. Этого зазнавшегося готтентотского ублюдка цветные девки уже не интересуют.
Лицо Филиппа покрылось пятнами. Он плотно сжал губы и сказал, наклонив голову, словно в полупоклоне:
— Мне очень грустно, что отец…
Деон презрительно хмыкнул и повернулся к Элизабет.
— Выбирай! — выкрикнул он в бешенстве. — Выбирай же! Он или я.
Она стояла, опустив глаза, и даже не смотрела на него. Он искал ее взгляда, а она упрямо отводила глаза.
— Выбирай! — повторил он грубо.
Но она все так же смотрела в сторону, и в конце концов через некоторое время заговорил Филипп:
— Ты не понимаешь. Выбирать нечего.
Деон сжал кулаки, и Филипп загородил руками грудь.
— Драться со мной бессмысленно. Все уже решено.
— Почему ты не уберешься отсюда ко всем чертям? Разве ты не видишь, что ты здесь лишний?
Филипп улыбнулся, но рук не опустил.
— Я как раз собирался уйти, когда ты пришел.
— Ну и проваливай.
— Ты, по-видимому, считаешь, что мне здесь не место. — Голос Филиппа звучал насмешливо и спокойно. — Поэтому тебе, несомненно, будет приятно узнать, что мы с Элизабет сами пришли к такому же заключению.
Возможно, под насмешливостью пряталась печаль, но Деон ничего не хотел знать.
— Ну, хватит разговаривать! Убирайся! — крикнул он.
— Мы как раз прощались.
— Слушай, ты уйдешь наконец?
— Сейчас уйду, мой друг. Как я сказал: мы прощались, потому что поняли — для нас нет будущего. Во всяком случае, в этой стране. Как вы столь любезно нам объяснили. А может быть, и нигде в мире.
Он говорил бесстрастно и отчетливо, словно излагал симптомы интересного и редкого заболевания. Ни намека на боль или внутреннюю борьбу. Если они были.
Филипп взялся за дверную ручку.
— Прощайте, — сказал он Элизабет с подчеркнутой вежливостью.
Она, казалось, хотела сказать что-то. Но промолчала.
Филипп повернулся к Деону, и на лице у него Деон увидел то выражение нежности, вызова и гордой отчужденности, которое помнил с самых давних дней их детства. Но теперь во взгляде Филиппа было что-то еще — может, сострадание.