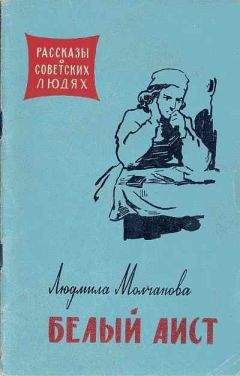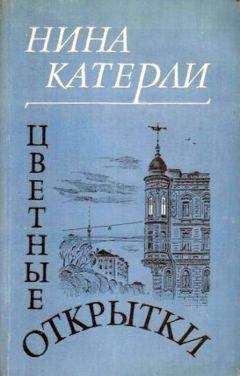Кристиан Барнард - Нежелательные элементы
— Не знаю, юноша. Он без сознания. — И развел руками… — Возможно, это конец. Несмотря на переливание крови, лейкоцитов становится все меньше. Не говоря уж о сепсисе.
— Но неужели мы ничего не можем сделать? Хоть что-нибудь, чтобы… — Деон заметил, что в его голосе прорывается то отчаяние, то напряжение чувств, которые он твердо решил подавлять в себе. Но вопреки его желанию они вырвались наружу.
Бонзайер бросил на него быстрый и, пожалуй, сочувственный взгляд.
— Могли бы, — согласился он. — Еще переливание. Остальное вы сами знаете. Но зачем? — Он сделал паузу, давая Деону возможность понять, затем продолжал мягко и настойчиво: — Нужно ли ему это? Он без сознания, его не мучает боль, он тихо уходит. Так почему просто не дать ему… уйти?
Почему?
Разве чужой не лучший наш друг и утешитель? Этот неслышный и неумолимый судебный исполнитель в мешковатом костюме, который приходит отпустить людям долги их, покончить все счеты и подвести окончательную черту под графой приходов и расходов. Так почему?
Да потому, что все его инстинкты и все его знания твердили, что смерть — это враг, что уступить ей без борьбы — значит совершить предательство из предательств. Разум способен принять неизбежность ее, но нечто в самом глубине его существа, быть может, единение всех клеток тела, бессознательно стремящегося к жизни, восставало против этой покорности, кричало: «Нет!»
Он вдруг вспомнил, как отец сказал ему, спускаясь по старым скрипучим ступенькам в маленькой гостинице: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». И усмехнулся этой одному ему понятной шутке.
— Не знаю, — пробормотал Деон. — Наверное, вы правы.
Бонзайер кивнул одобрительно, а может быть, и с некоторым облегчением.
— Ну, и хорошо. Вы пока посидите здесь?
— Да.
— Отлично. А то мне еще надо кое к кому заглянуть. У моего старого друга сегодня во время гольфа случился инфаркт. — Он опять издал посасывающий звук, словно хотел избавиться от чего-то застрявшего между зубами, и внимательно посмотрел на Деона. — Но может быть, вам все-таки…
— Не беспокойтесь.
— Ну вот и хорошо. Как я сказал, я еще побуду здесь, а потом пойду домой. Звоните в любое время.
— Спасибо. Спасибо, доктор.
Бонзайер легонько похлопал его по плечу, кивнул и ушел.
Теперь он остался один и должен был встретить это один.
Позже он, по-видимому, задремал, потому что вдруг вздрогнул, выпрямился и увидел, что глаза отца открыты и смотрят на него. Свет ночника подчеркивал, тени на лице с запавшими щеками, так что голова уже походила на череп. Но глаза жили. Они светились ясным сознанием. Деон вскочил и подошел к кровати. Давно ли отец очнулся? Долго он дремал под этим пристальным, испытующим взглядом?
— Ну как ты?
Губы раскрылись, и отец с трудом произнес:
— Пить!
Деон налил воды из графина и помог ему напиться.
Иоган ван дер Риет откинулся на подушку, вздохнул и закрыл глаза. На мгновение Деону показалось, что он снова впал в Забытье.
Но тут старик более твердым голосом произнес:
— Деон!
Это было сказано властно и в то же время торжественно.
— Я здесь, отец.
— Иоган?
Бот был тезкой отца.
Деон не знал, что сказать.
— Он… Бот на ферме, отец.
Глаза открылись, и отец посмотрел на него тем строгим и сухим взглядом, каким всегда отвечал на глупость или недомыслие.
— Бот в тюрьме, — проговорил он отчетливо. — Здоров?
— Да, отец, — виновато сказал Деон.
Старик кивнул, видимо удовлетворенный, затем, точно разговаривая сам с собой, произнес:
— Иоган пошел в мать, — и, хрипло вздохнув, добавил: — Невинная душа.
Пусть так!
— Да, отец.
Вновь строгий и сухой взгляд.
— Как и его мать. Не от мира сего. Без житейской мудрости. А потому их всякий может обмануть. — Затем одобрительно добавил: — Гордости у нее было много и все-таки не хватило. Вот это ее и сломило.
— Кого, Лизеллу? — спросил Деон, не поняв.
— Какую Лизеллу? Я говорю о твоей матери.
Значит, он все-таки бредит.
— Да-да, — сказал Деон.
— Ко мне приходил пастор, — сказал отец чуть погодя. — Когда это было? Вчера?
— Теперь уже позавчера. Скоро утро.
— Который час?
Деон посмотрел на часы.
— Половина четвертого.
— Утра? Ночь долга, господи. Но да простятся нам грехи наши.
— Тебе вредно утомляться, — сказал Деон растерянно. (Может быть, попросить, чтобы ему дали снотворное?)
Но отец замолчал и молчал так долго, что Деону показалось, будто он заснул или снова впал в забытье. У него самого слипались глаза.
— А этот мальчик, — донесся голос из полутьмы. Послышалось хрипение, и отец снова попросил пить. — Этот мальчик, — повторил он, напившись, — Флип. Он тоже приходил ко мне?
— Да, отец.
— Он вырос дельным человеком. Позови его.
— Ты хочешь, чтобы я позвал Флипа Дэвидса? — удивленно переспросил Деон.
— Да. Позови его.
— Но ведь сейчас очень поздно.
Голова на подушке раздраженно дернулась.
— Ты не понял, Деон? Я хочу, чтобы пришел Филипп, мой сын.
Это было сказано сердито, и Деон решил, что сознание отца то ясно, то помрачается, но в любом случае надо исполнить его желание.
Филипп работал теперь в гинекологическом отделении. Но оказалось, что в эту ночь он не дежурит. Однако на всякий случай он оставил номер своего телефона, и сестра дала его Деону.
Прижимая трубку к уху и слушая гудок, Деон задумался. Ночь, свободная от дежурства, когда почти наверняка можно спокойно выспаться… Ему вспомнилась та ночь, когда Филипп дежурил и за него, а он поехал на вечеринку к Хеймишу.
С другой стороны, Филипп, возможно, считает себя обязанным старику. Ведь кончить университет ему помог он. И приходил же Филипп засвидетельствовать свое уважение. Вчера днем.
Он начал набирать номер. Но только набрав две первые цифры и продолжая глядеть на рецептурный бланк, который дала сестра, он вдруг заметил в сочетании цифр что-то очень знакомое. Он продолжал вглядываться в номер, уже держа палец на шестерке. Затем, машинально отметив про себя, что руки у него дрожат, осторожно опустил трубку на рычаг.
Это был номер домашнего телефона Элизабет.
Сестра посмотрела на него вопросительно.
— Я передумал, — объяснил он и оскалил зубы в подобии улыбки. — Пожалуй, не стоит будить его среди ночи.
Она кивнула, и он вышел в коридор. Но вернуться в палату к отцу он не мог.
Филипп.
Ублюдок!
Он уперся рукой в зеленую стену, ощущая под пальцами холодную гладкость краски, положенной во много слоев.
И острота страдания, и горечь внезапного открытия, и бессильный гнев вдруг отступили, вытесненные новым, нараставшим в нем чувством. Ему казалось, будто это соприкосновение со стеной растет и ширится, захватывая соседние кирпичи, соседние стены — все дальше и дальше, и уже охватывает все здание больницы и тысячи жизней в нем, так что кирпич, и сталь, и цемент тоже ожили, одержимые жизнями, заключенными в них. Вместе с этим чувством к нему пришло ощущение божественного торжества, великой власти, словно, просто стоя тут, у начала начал, он подчиняет себе все это и может проникнуть за обманчивый покров ночного безмолвия, которое скрывает так много. Он был связан с каждой из этих жизней, с их страхами и радостями, надеждами и горем. Он дышал одним дыханием с ними в сумерках раннего утра и пробудится с ними к тому, что бы ни принес свет грядущего дня.
Мало-помалу это чувство угасло. Стены снова стали стенами, и он стоял один в больничном коридоре. Но ощущение торжества еще жило в памяти, и какое-то время он был в мире с самим собой.
Он направился в палату к отцу, придумывая причину, объяснение, почему ему не удалось найти Филиппа Дэвидса.
Но объяснять ничего не пришлось. Пока Деона не было, Иоган ван дер Риет снова впал в забытье и, не приходя в сознание, скончался перед наступлением ясного весеннего утра.
Сперва Деон бессмысленно кружил по шоссе, гнал к городу и возвращался. Однако направляющихся в город машин становилось все больше, а потому он повернул назад, решив отправиться на взморье, в Фолс-бей.
Но едва больница снова осталась позади, как он, почти не отдавая себе отчета, свернул в Ньюлендс и тут же понял, что с самого начала знал, куда поедет.
Филипп и Элизабет. Невозможно. Слишком невероятно, чтобы это можно было осознать.
Элизабет и Филипп. Он просто не может себе этого представить. А потом обнаружил, что может — и очень живо. Ему стало противно, и он попытался думать о чем-нибудь другом, но образ двух сплетенных тел, коричневого и белого, продолжал стоять перед его глазами.