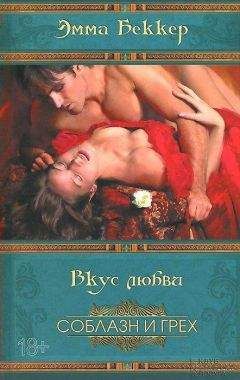Дом - Беккер Эмма
Никто не знает, куда они деваются: мир просто забирает их обратно. Кем они в нем становятся? Ну как же, нормальными людьми, думается. Только вот интересно, теперь, когда она бросила, теперь, когда ее ласки стали бесценными, ходит ли она по улице беззаботно, как все остальные женщины, что никогда не торговли своим телом? Бросая бордель, теряешь ли ты в тот же день острое осознание того, что ты женщина? Пропадает ли привычка задумываться при каждом мужском взгляде, не один ли это из твоих бывших клиентов или, может, он будущий? На террасе кафе, сидя в одиночестве около группы из десяти мужчин, не решающихся заигрывать с тобой и притворяющихся, что тычут пальцами по экранам сотовых, продолжаешь ли ты смутно побаиваться, что в этот момент они сравнивают тебя с твоими фото на сайте?
Как отделить этот отрезок своей жизни от остальных? Быть проституткой — это не столько профессия, сколько договор, заключенный однажды с самой собой: решение отодвинуть в сторону понятие привязанности, связываемое с сексом, и наплевать на него.
Поработав раз в борделе, невозможно мысленно вернуться назад, невозможно притвориться, что секс никогда не был бизнесом. Другие могут продолжать оставаться в неведении, это ведь не написано на лбу у девушки, но мы-то знаем это.
И вообще, можно ли действительно бросить? Что становится с тем ощущением в районе желудка, когда кто-то при тебе по какому-либо поводу произносит слово «проститутка»? Невозможно спорить на тему проституции объективно: подобных дискуссий лучше избегать, надо сказать, если своей неуправляемой яростью не хочешь дать раскусить себя.
Светлана бросила. И в борделе, как и везде, жизнь продолжается. Ее отсутствие оставит ощущение пустоты ее подругам, но вскоре другие заполнят его. Это вовсе не траур: непохоже, чтобы кто-либо так воспринимал это. А может, это тоже часть профессии — не привязываться. Подумать только, на протяжении какого-то времени она была важнейшей частью вечерней смены, ее голос узнавали издалека: звук ее смеха, ее крики. По парфюму Светланы узнавали, в какой комнате она работает. Почему же, уходя, она оставила лишь тонкий след, улетучившийся от необходимости продолжать работать и жить? По тому же принципу мы ценим некоторых клиентов и только через полгода понимаем, что они, возможно, больше не вернутся. А после? Будут и другие. Проституция — это профессия, которая не может существовать без умения забывать: клиенты стирают воспоминания о своих предшественниках, девушки стирают воспоминания о бывших коллегах.
Я думаю, что у них всех — у нас всех — внутри есть место для подруг и клиентов, но это место, закопанное глубоко-глубоко, заполняется не сожалениями. Было бы неуместно сожалеть о том, что одна из нас поменяла образ жизни, оказалась с другой стороны зеркала. Все мы знаем, почему бросаем.
Может, мне не стоило упоминать Светлану. Она ушла, и наверняка у нее все хорошо. Наверняка она не хотела бы выйти из общего забвения, потому что я помню о ней, потому что она была симпатичной и смешной и потому что ее приключения сделали мои еще более интересными. Но проституток не зря называют публичными женщинами, и от этого мне становится страшно. Если мы в разные периоды нашей жизни бываем абсолютно разными людьми, тогда Светлана, именно эта часть ее (такая же театральная, как Жюстина для меня), навсегда останется достоянием общественности. Светлана всегда будет существовать в этом разрезе вселенной, в котором ей девятнадцать лет, у нее густая копна светлых волос и самые красивые груди, что мне дано было видеть в своей жизни (да простят меня любовницы, которым я шептала этот комплимент).
Какие груди! От их вида я даже забывала о зависти и время от времени бубнила про себя: да ладно, все же ей девятнадцать лет, так ведь. Светлана всегда выглядела отлично, возвращаясь из комнат нагая, как и мы все, но посреди доброжелательного леса сисек мои глаза немедленно признавали ее груди. Они были из той благословенной породы маленьких, но наливных, тяжелых грудей — оскорбление всем законам физики. Они дерзко торчали, как гордый подбородок, и едва покачивались при ходьбе. Наверняка — о, как я представляю это себе! — они изящно подпрыгивали в пурпурной темноте комнат, подрагивали, словно молочный крем, с кончиками едва ли более розовыми, чем ее белая кожа. И этот волнующий изгиб между низом грудей и выступом ребер, который едва ли становился более заметным, когда она наклонялась над реестром, чтобы записать своим странно сухим почерком час ухода клиента. Тот, должно быть, провел каждую минуту своего приема в молчаливом восхищении. Клиенты заботились о ней. Мы иногда видели, как она выходила из Студии с покрасневшими от ударов ягодицами и бедрами, но какое-то божественное веление, казалось, оберегало груди от неизбежной строгости. Будто непроницаемые, бледные, как молоко, ленивые и бесчувственные соски Девственницы нужно было любить глазами.
Но однажды, в мое отсутствие, какой-то клиент довел ее до слез, и она не вернулась на следующий день. Делила шепнула мне об этом на ухо на кухне. Никто не запомнил, как он выглядел, хотя это было крайне важно. Однако домоправительница пришла в ярость, вся покраснела и предупредила его, что, если он впредь будет вести себя подобным образом, ни одна из девушек больше не захочет принять его. Вести себя подобным образом? Никто, впрочем, не знал, что такого он сделал Светлане, что она разревелась и пулей выбежала из комнаты до конца положенного времени. В общей комнате все еще продолжалась дискуссия. Каждая из девушек искала в своей памяти занесенного в черный список клиента, который как-то смог обвести вокруг пальца осмотрительных домоправительниц, таких было море! Да и потом, неприязнь у каждой из девушек вызывают разные вещи, к которым остальные могут быть равнодушны. Так как отличить одного сумасшедшего от другого? Пусть Светлана была молодой и новенькой в деле, довести проститутку до слез нелегко, особенно здесь. Надо было действительно напугать ее, то есть заставить на секунду забыть, что здесь ничто не может произойти без ее согласия. А еще это значит быть более быстрым, чем непрекращающийся поток мыслей проститутки, убить в зародыше идею выйти из комнаты и позвать на помощь.
Мысль об этом напоминает мне, что над нашими головами постоянно висит дамоклов меч. Я стала говорить об этом с Полин, чтобы сложить на нее часть груза. Если завтра к нам заявится псих с бритвой в кармане и захочет перекроить одной из девушек лицо, никто здесь не сможет помешать ему в этом. У нас нет вышибал, но это мало что поменяло бы: те просто не успели бы подняться на второй этаж, и девушке к тому моменту уже перерезали бы горло. Тут в разговор вмешалась Розамунда, слушавшая нас, опустившись одной ягодицей на кухонный стол. По ее мнению, можно даже забыть про лезвие. Что, если завтра один из постоянных клиентов, которым мы доверяем, вдруг съедет с катушек? Допустим, у него будет профессиональное выгорание и он придет к нам с пистолетом под пальто, решительно настроенный не уходить спокойно и в одиночестве… Розамунда снова и снова повторяет свое «если», нарезая имбирь и не поднимая при этом глаз на нас с Полин. А мы взвешиваем каждое ее слово, и у нас по коже пробегает легкий холодок. Представим, что девушке посчастливится оказаться в момент событий на первом этаже, рядом с общей комнатой. Это значит, что у нее будет возможность оповестить кого-нибудь, однако кто гарантирует, что выросшая перед ним разнервничавшаяся домоправительница, поворот дверной ручки или невесть какой шум снаружи не подтолкнет отчаянного клиента нажать на курок? Вот так, без возможности спастись.
— Паф! — роняет Розамунда ровным тоном, направляя сложенные пистолетом пальцы на стол, за которым курим мы с Полин.
Даже если он не выстрелит, если не выстрелит сразу, даже если он ограничится тем, что схватит девушку за волосы, крича с обезумевшими глазами, что жизнь его бессмысленна и давайте звоните в полицию; если он отступит к приоткрытым окнам, прижимая к себе дрожащую от страха проститутку, так что они будто сольются в одно целое, как спаривающиеся колорадские жуки… Есть ли хоть какой-то учебник, указывающий персоналу, какого протокола придерживаться в присутствии умалишенного? Нет, нам конец. Если потерявший рассудок человек решит лишить наше стадо одной из овечек, нам останется только уповать на то, что Бог бережет невиновных.