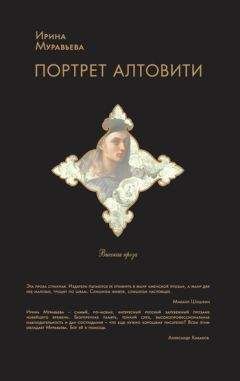Ирина Муравьева - Холод черемухи
– Лучше в нас, чем в таз!
В доме было сумрачно, неуютно, мокрые деревья покорно дрожали под бегущими на них потоками, и красные цветы, распустившиеся у самого крыльца, казались необычайно яркими. Аист стоял на краю своего почерневшего гнезда в верхушке большой величавой берёзы, ветер трепал его намокшую обвислую косицу, в то время как аист, волнуясь, сердясь на стихию, которая готова была лишить его крова, тепла и уюта, выстукивал клювом привычную жалобу: «Да сколько же можно! Ах, сколько же можно!»
На третий день проглянуло солнце, и в брызгах мелкой водяной пыли вспыхнул тёмный от влаги сад, к полудню стало почти душно, и сладкий запах цветов и трав поднялся от земли, а ещё через час ни следа не осталось от прежнего мрака и холода: всё высохло, всё засияло, и ветер, вернувшийся с поля, стал светло-зелёным.
Теперь Александра Самсоновна уже не сомневалась в том, что ждёт ребёнка, да и знаменитый доктор Отто Францевич, когда-то приговоривший её к бездетности, отменил этот приговор, когда перед самым отьездом в Пушкино Александра Самсоновна позвонила в дверь его квартиры на Старом Арбате, боясь, что ей скажут, что Отто Францевич умер или завершил свою практику, но в тёмной и чистой квартире всё было по-прежнему, и так же тикали старинные бронзовые часы на стене, и строго, сжав тонкие губы до нитки, старая горничная спросила её, в котором часу ей назначено, и тут же пошла доложить в кабинет, что дама её умоляет принять, хотя и назначено не было.
И сам Отто Францевич, вышедший через несколько минут навстречу, был тем же: худым и подтянутым, хотя совсем старым, с тёмным от старости худым лицом, – он моментально узнал её, как привык узнавать всех, кто хоть раз лежал под его цепкими руками, а он, прощупывая горячую нежную плоть, навек заносил в свою память лицо пациентки. Он не только узнал её, но и вспомнил, что почти восемь лет назад сказал ей на этом вот месте, что больше детей быть не может, и был абсолютно уверен, что прав, поэтому сейчас, когда она пришла к нему и он цепко прощупал то, что было её будущим ребёнком, ему ничего другого и не осталось, как только развести своими старческими руками, поднять к потолку всё ещё голубые, в коричневых точках – как будто бы их прокололи иголкой – зрачки и вздохнуть: «Воля Божья!»
Александр Данилыч, которому жена, давясь счастливыми слезами, сказала, что будет ребёнок, сначала почему-то испугался так сильно, что Александра Самсоновна сникла: этого она совсем не ждала.
– Когда? – спросил он, хотя это было глупым и ребяческим вопросом.
– К Рождеству, – ответила Александра Самсоновна.
Он обнял её, стиснул обеими руками.
– Дай мне слово, Саша, что, если со мной что-то случится, ты уедешь отсюда к моим сёстрам в Саратов, потому что они помогут тебе с ним.
– Откуда ты знаешь, что с ним, а не с ней?
– Знаю. Так ты даёшь слово?
– Но, Шура, постой! Что же может случиться?
– Даёшь ты мне слово? – упрямо повторил муж.
– Даю, – прошептала Александра Самсоновна и услышала, как прямо в горле Александра Данилыча, к которому она прижималась лицом, стучало его всполошённое сердце.
Счастливее этого лета, вернее, неполных двух месяцев лета, не было в жизни Александры Самсоновны времени. Она даже не обращала внимания на то, что муж её всё время куда-то отлучался, часто ночевал в городе, откуда возвращался с воспалёнными и встревоженными глазами. Никакой женщины – это Александра Самсоновна знала точно – у него не было. И не могло быть. Ребёнок их, мальчик (она тоже чувствовала, что это был мальчик!), несколько дней назад осторожно, как будто боясь беспокоить, толкнулся ей в бок своей ножкой, и Александра Самсоновна снова не справилась с собой, снова залилась слезами и сквозь слёзы увидела его всего: крошечные ноги, руки, глаза, волосы, которые будут кудрявыми, как у них обоих. Она почувствовала его запах – такой же, как запах травы и цветов, но с нежной молочною примесью, которою пахнет любое младенчество: ягнёнок, щенок и дитя человечье.
Девочки старались вовсю. На огороде уже рос зелёный лук, поспела клубника, и ждали крыжовника. В реке оказалось не то чтобы очень много рыбы, но кое-что было, и раков искали в песке, и улиток, поскольку Александра Самсоновна рассказала девочкам, что в Париже, например, не только не брезгуют такой водяной и невзрачною мелочью, но очень смакуют, едят во всех видах.
– Они и лягушек едят там! Вот люди! – вздохнула Надя Бестужева. – Мне брат говорил.
Вечерами, когда солнце уходило и вдруг становилось темно, так что даже не видно было тех белых и жёлтых цветов, которыми заросли глубокие колеи дороги, натаскивали хворосту, разжигали костёр, картошку пекли и ели её с серой солью и луком. Надя Бестужева пела романсы, а потом все вместе заводили ту старую песню, которой научила их Александра Самсоновна, проведшая детство на хуторе.
Чёрный ворон, чёрный ворон!
Что ты вьёшься надо мной?
Ты добычи не добьёшься,
Чёрный ворон, я не твой!
Что ты когти распускаешь
Над моею головой?
Иль добычу себе чаешь?
Чёрный ворон, я не твой!
Странно и тревожно было смотреть на этих серьёзных, разрумянившихся от костра девочек в деревенских косынках, с блестящими и чистыми молодыми глазами, которые, словно забыв всё на свете, просили судьбу за чужого солдата:
Завяжу смертельну рану
Подарённым мне платком,
А потом с тобой я стану
Говорить всё об одном.
Полети в мою сторонку,
Скажи маменьке моей,
Ты скажи моей любезной,
Что за родину я пал.
Отнеси платок кровавый
Милой любушке моей,
Ты скажи – она свободна,
Я женился на другой.
Взял невесту тиху-скромну
В чистом поле под кустом.
Обвенчала меня сваха —
Сабля вострая моя.
Калена стрела венчала
Среди битвы роковой,
Вижу, смерть моя приходит,
Чёрный ворон, весь я твой!
Каким был чудесным и тихим тот день. Какой день? Когда? Я сейчас расскажу. Утром этого дня, 15 августа 1919 года, к зданию школы подъехала повозка, запряжённая слепой на один глаз старой лошадью. Привезли молоко. Такое случалось в неделю два раза. Выпив по кружке тёплого, не успевшего остыть молока, девочки гимназии Алфёровой принялись за работу. Сегодня нужно было окопать все яблони в саду, а завтра, сказала старуха, топившая печи, – «должно быть дождю и студёно, из дому не выйдешь».
Светлая сочная зелень деревьев свободно пропускала сквозь себя солнечный свет, который пёстрыми, то золотыми, то синими пятнами дрожал на земле, и белые мелкие цветочки, повсюду рассыпанные в густой траве, – как будто они были щебетом лета, – сияли от счастья. Александра Самсоновна пошла проверить, как готовят обед – простой, но добротный: щавелевый суп и картошку с укропом и после десерт: жжёный сахар со сливками, – но, не дойдя до кухни, обернулась на звук подъехавшей машины. Из машины вышли трое. От ужаса, сковавшего её, Александра Самсоновна не запомнила лиц. Вместо лиц появилась сразу же вызвавшая тошноту неприятная дрожь серых пятен, насаженных на человеческие тела. Двое близко подошли к Александре Самсоновне, а третий загородил собою калитку, как будто Александра Самсоновна собиралась бежать.