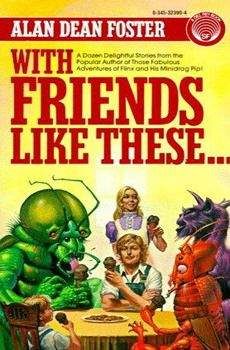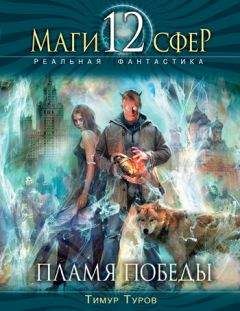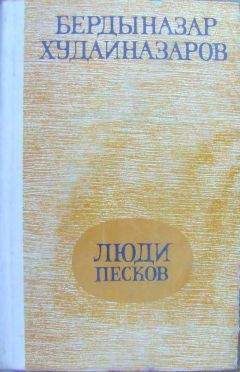Петр Проскурин - Имя твое
— Фу, черт, — стуча зубами, пробормотал он, отплевываясь, — холодно как…
— Да ты что, Илья! — Захар вплотную приблизил свое лицо к лицу сына, стараясь различить его глаза. — Что это с тобою?
— Не знаю… Или сам оступился, или кто-то скинул с обрыва… как в спину кто ударил, мягкий, здоровый… В самую воду слетел, а там от страха не в ту сторону поплыл… Ух ты, жуть… Вот оказия! — перескакивал с пятого на десятое Илюша. — Кто-то вроде как загогочет над самым ухом, в спину как саданет!
— Ладно, утром разберемся, — заторопился Захар. — Марш к костру, теперь все одно прогреться надо, простуду, гляди, схватишь.
Они быстро поднялись вверх от воды, Захар со спокойной решимостью собрал костер, неотступно думая, что если кто задумал злое дело, помешать ему с одним топором в руках все равно не удастся. Достав из полога тонкое, привезенное Маней солдатское одеяло, он приказал сыну раздеться донага, все с той же чуткой настороженностью ожидая, что вот-вот хватит выстрел и все будет кончено. За себя он не боялся; суровая и в то же время размягчающая нежность к сыну охватила его. Дрожа от холода, стаскивая с себя штаны и рубаху, Илюша стыдливо пятился в темноту.
— Давай, давай к костру! — грубовато прикрикнул Захар. — Ты что загораживаешься? Сам мужик, чем ты меня удивить-то можешь?
Оп накинул на Илюшу одеяло, через грубую, плотную ткань хорошенько растер ему спину и грудь, затем разложил и развесил вокруг костра сушиться одежду и обувь; непроницаемо темная тайга кругом упорно молчала.
Вся остальная ночь прошла спокойно; Захар, ни на минуту больше не сомкнувший глаз, облегченно вздохнул, заметив, как начал светлеть полог; когда же окончательно рассвело, он, не тревожа крепко разоспавшегося сына, внимательно осмотрел во многих местах помятую, истоптанную траву вокруг, но звери это были или люди — не понял. И только метров за двести от ночевки, увидев надломленные именно рукой человека молодые березки, он, угрюмо нахмурившись, собираясь с мыслями, довольно долго стоял на одном месте, в нем зрела какая-то каменная, саднящая сердце решимость.
Домой они вернулись поздно к вечеру; чуть не пол-лодки у них было завалено золотистыми карасями, и далеко за полночь вся семья с помощью Брылика и его жены приводила рыбу в порядок: потрошили, отбирали для солки и вяления. Захар запретил сыну говорить о случившемся с ними ночью на ночлеге даже матери, и все были веселы и дружно работали; лишь Захар, попыхивая зажатой в зубах цигаркой, порой вроде бы ни с того ни с сего затихал, уходил в себя.
Он встретил Загребу с неизменной псиной у левой ноги дня через три, возвращаясь с укладки штабелей; Загреба еще издали приветливо поздоровался, вынужден был остановиться и Захар.
— Молва идет, Дерюгин, ты карасей приволок уйму? — поинтересовался Загреба с холодными, глубоко запрятанными огоньками в глазах.
— Ничего, пудов десять взял, — сдержанно отозвался Захар. — Выберу денек, еще надо смотаться… нахлебников-то хватает.
— Наверно, далеко забираешься? — спросил Загреба. — Смотри, осторожнее на ночлеге, в этих местах все может быть.
— А-а! — Захар махнул рукой. — Если и быть чему, что ж, умирать теперь с голоду у бабы под юбкой?
— А что такое? — живо заинтересовался Загреба, и Захар тотчас понял, что его догадка попала в самую точку: без этого вот тихо улыбающегося человека в памятную ночь в тайге не обошлось; Захар глянул прямо в глаза Загребе. Короткое молчаливое единоборство, пожалуй, закончилось вничью, у Захара даже мелькнула мысль, что Загреба, возможно, и не имеет никакого отношения к глухому ночному делу; проверяя свое первое впечатление, он коротко рассказал о случившемся.
— В этих краях и не такое может быть, — повторил Загреба как-то даже слишком спокойно. — Хорошо, благополучно обошлось… Я бы один здесь в тайгу не решился… Отчаянный ты мужик, Дерюгин…
— Помню я наш разговор, — кивнул Захар. — Как же… Тоже приходится о собственной шкуре подумать.
— Слушай, Дерюгин, — доверительно потянулся к нему Загреба, слегка похлопывая чем-то внезапно встревоженную собаку по загривку, — скажи еще раз этому своему Брылику, пусть он прикусит язычок. Нехорошо все-таки, такое несет — уши вянут…
— Хорошо, скажу. — Захар подавил в себе неожиданное желание с остервенением плюнуть и выругаться; у него опять мелькнула мысль, что накатит минута — и они с этим вот человеком сойдутся на такой тесной стежке, что ни тому, ни другому свернуть будет некуда.
— Ну, бывай, Дерюгин, — после довольно ощутимой паузы отозвался Загреба, и Захар увидел на его лбу напрягшуюся вену, она словно перечеркнула висок.
Остаток пути до дома Захар шел медленно, взвешивая каждое сказанное слово; тесна оказалась земля для них двоих, точь-в-точь как когда-то у него с Анисимовым, неожиданно вспомнил он. Тогда он не уступил, а что толку — вся его жизнь разлетелась вдребезги, недаром так и чешутся руки немедленно собраться и укатить из этой глухомани, где пьяница комендант и разговаривать о шайке Загребы не хочет или попросту боится (Захар уже не раз пробовал это делать), укатить немедленно, сейчас же! Увезти отсюда Маню с детьми; чувство смертельной, удавкой захлестывающей опасности перехватило горло. Что ему, больше всех надо? И только сверкнула беспощадная мысль, что если закона нет, то его нет ни для кого…
16
Комендантская — тяжелый, приземистый бревенчатый дом — стояла в самом центре поселка, на песчаном холме, возле крыльца высился уцелевший старый кедр. Комендантская была разделена на две половины: на официальную, казенную, и жилую, для коменданта и его семьи. Дом Загребы стоял напротив. Стася Брылика кто-то напоил, и чья-то умелая рука направила его прямо к комендантской; шел он по самой середине поселковой улицы, в пьяном бесстрашии держась очень прямо; в пьяном угаре мерещилась ему жалкая фигура опозоренного мучителя Загребы, с которым он сполна рассчитается и за дочку, и за все остальное. Для Брылика наступил момент безграничной свободы, душа вознеслась под самые облака, все земное было ей нипочем, все земное не существовало, потому что шел он обличить и уничтожить зло в лице ненавистного Загребы, и, к сожалению, Захар узнал об этом лишь на другой день, на работе.
Потом говорили, что Брылик два раза останавливался: у столовой, где собралось несколько человек, и у магазина, где тоже толпились люди. У магазина Брылик задержался, у кого-то закурил, даже посмеялся чьим-то словам, но затем его вновь неудержимо повлекло в сторону комендантской.
Он остановился метрах в десяти перед молчаливыми окнами Загребы, стащил с себя пиджачишко, бросил его па землю и засучил рукава.