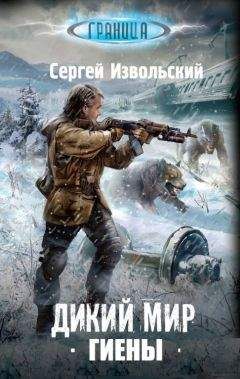Елена Катишонок - Против часовой стрелки
— У вас есть свидетели?
Бабушка не поняла. Женщина терпеливо объяснила, что стаж работы в буржуазное время учитывается в том случае, если найдутся свидетели, не менее двух, которые подтвердят, что заявитель действительно работал в данном месте. Нет, документы в расчет не принимаются и не рассматриваются. Почему? Да потому, что документы, выданные буржуазной администрацией, не имеют юридической силы в советское время.
Каждое слово было понятно, но смысл сказанного оставался абсурдом. «И я как должностное лицо советую вам поискать свидетелей, — закончила женщина. — У вас вопросы есть?»
Должностное лицо явно переносило беременность с трудом. Неизвестно, была ли женщина привлекательной, потому что сейчас по всему лицу расползлись пигментные пятна, губы вспухли и потеряли форму, волосы отказывались держать завивку и висели тусклыми прядями. Вязаная кофта с оленями на груди едва сходилась, словно оленей силой растаскивали в разные стороны.
Отрапортовав весь положенный бред, женщина смотрела сочувственно и ждала.
У Ирины вертелся только один вопрос: почему она не перешьет пуговицы на кофте, но спросила о другом: «Первый?» Та радостно кивнула: «Ага. Скорей бы в декрет…» Потом добавила, заглянув в бумагу:
— Вот, например… Кто-то может подтвердить, что вы на табачной фабрике работали?
Кто ж из Палестины подтвердит…
— А родные подруги вашей? — настойчиво и с надеждой продолжала беременная, — или родные тоже в Палестину уехали?
— Нет, не в Палестину, — с трудом выговорила Ирина, — дальше.
Не получилось сказать ни про гетто, ни про видение, которое мучило ее с 46-го года: рыжий румяный мальчик выпрыгивает из горящего дровяного склада прямо в реку, не касаясь земли.
— Только один у меня свидетель: мой брат. Мы с ним год на сахарной фабрике вместе работали.
Та покачала головой: брат не может быть свидетелем.
Поищите, напутствовала женщина. Не может быть, что никого не найдете.
Оказалось, может.
«Не забудьте, профессиональная учеба а-а-атличненько засчитывается в стаж», — дребезжал в ушах голос кадровика.
Кристен и мадам Берг, которые удостоверили бы и курсы, и ее работу в модном магазине, жили в Германии, если… если жили еще. Герман, Ирочкин провожатый со всех работ, находился на противоположном конце материка. Позвольте, но ведь Герман — родственник? Положим, не просто родственник, а все равно что брат, но для исполкома — кузен мужа; но где он, Герман? То ли на Дальнем Востоке, то ли уже в Городе и, возможно, стоит перед зеркалом с галстуком, размышляя о странности бытия, но Ира об этом не знает…
Соседи?
Нет соседей. Вернее, нет тех соседей, которые помнят, как Максимыч крепил на дверь табличку «Г. М. Ивановъ»; все соседи сменились.
А владельцы магазинов и магазинчиков, фабрик и фабричек?.. В лучшем случае они разделили судьбу Германа; в худшем — были отправлены в гетто, как Дебора и Яшка-пуля, пусть земля им будет пухом…
Им — или их пеплу.
Поиски прошлого затягивают — и затягиваются, как получилось с пенсией: свидетелей Ира не нашла.
Милая беременная чиновница уже нянчила дома младенца, а на ее месте сидел пожилой отставник с узкой орденской планкой и в черных нарукавниках. Он прочитал заявление и голубой бланк, несколько утративший свою голубизну, а потом защелкал на арифмометре и объявил сумму пенсии: 520 рублей.
За сорок лет работы… минус двадцать.
Двадцать лет труда в то время, которое одни называли «буржуазным», другие «свободным», третьи «республикой», никем не были засвидетельствованы, и потому оказалось возможным просто стряхнуть эти годы с пенсионного бланка. Выходило, что бабушка не испытывала необходимости работать в продолжение двадцати лет, и только с приходом советской власти торопливо села за казенную швейную машинку.
Через несколько лет стряслась денежная реформа, и 520 превратились в 52 рубля «новыми». Новые деньги по своей миниатюрности казались вначале не настоящими деньгами, а фантиками; назвать их кредитками язык бы не повернулся.
Потом привыкли.
Гораздо труднее было привыкнуть к их мизерному количеству.
Кадровик, вручивший ей голубой бланк, не поверил бы, узнав сумму пенсии, но он только пожал руку отличнице производства, неприятно задев ладонь своим когтистым ногтем, пожелал удачи — и тут же забыл о ее существовании.
А может, и сам уже вышел на пенсию.
15
Бабушка снова приехала в больницу. Широкая каменная лестница вела вверх, где начинался длинный коридор. Здесь было очень светло из-за окон по обеим сторонам. После подъема было трудно дышать, но Ирина спешила, тем более что коридор сделался ýже и темнее: окон больше не было.
Как не было и собственно коридора, а какое-то углубление в стене: ниша не ниша, тупичок не тупичок, но стояла в этом углублении Лелькина кровать. Бросилось в глаза ветхое, жалкое одеяло. Оно свисало до полу, и были видны прорехи с лохматыми нитками. С трудом оторвавши взгляд от жалкого одеяла, Ирина увидела, что у внучки наголо обрита голова. «Что ж темно так, Лелечка?» — но та махнула рукой и ничего не ответила. Какая худющая, подумала бабушка, даже скулы торчат. «Сядь, ты устала», — сказала внучка, только голос был не внучкин, но очень родной и знакомый. Ира устроилась на краешке кровати, в ногах, и спросила: «Как тебе, больно?» — и увидела, что это не Лелька вовсе, это — мама; а голову ей обрили из-за тифа. Крепко обняла худые ноги под тонким одеялом и, не в силах сдержать любви, жалости и страха, заплакала навзрыд.
…Как тогда, в Ростове.
Окна были открыты, валик за стеной еще не падал. Значит, рано. Будильник стучит так глухо, словно кто-то в шерстяной варежке ритмично колотит в дверь. Прошло несколько длинных мгновений, прежде чем поняла: это не будильник, это сердце. Нужно встать за желтой таблеткой, а еще бы лучше накапать корвалол, но во всем теле была ленивая усталость, которая не пускала.
Сон тоже не давал себя забыть, наоборот: перед глазами стояло дрянное, жалкое одеяло. Что сегодня, среда? Или четверг? Среда; значит, сон вещий. Знать бы, что сулит. Покойница мать, с легкостью вернувшая ее ни много ни мало на семьдесят лет назад, была мастерица гадать сны. Что-то невольно осело в памяти из увлеченных Матрениных толкований, но полагаться на это не стоит: память услужливо подсовывает кем-то уже виденные сны, как использованный билет в кино; а Матрену не разбудишь и не спросишь. Кажется, это хорошо, если мать снится.
Как — мать? Ведь это внучка была, только голова зачем-то обрита! А лицо не Лелькино — мамино лицо!