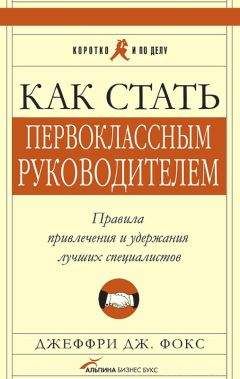Евгений Шкловский - Рассказы
Но туда, к двери, пошел не он, а Костя Ольшанский, длинноволосый (до плеч), статный, чуть пижонистый, но, правда, без особого выпендрежа.
Черты тонкие, четкие, нос прямой, брови темные… Даже в рабочей робе он выглядел так, будто на тусовку собрался. А главное – глаза голубые, небесного цвета. Ничего не скажешь, хорош, очень хорош собой, порода видна (девушки таяли). Он и сам знал про себя, держался гордо и независимо, хотя особо и не заносился.
Элита. Это он говорил – не про себя одного, впрочем, а вроде как про всех нас, включая Ванечку. И смотрел не мигая прямо в глаза своей заоблачной синевой. Марсианский немного взгляд.
Так он считал: в обществе должна быть элита, задающая некоторый уровень, иначе оно, то есть общество, деградирует. Раньше да, были аристократы, теперь это интеллектуалы. Конечно, до прежней потомственной аристократии, где семейно вынашивалось, из поколения в поколение, далеко, но все равно элита. Между прочим, сам он был чей-то сын, какого-то именитого математика, а если глубже копать, то и до аристократии можно было добраться, чуть ли не до княжеских или графских корней.
Одно плечо вздернув, Костя медленно поднялся и, порозовев от волнения, вышел вперед Ванечки, слегка того оттеснив, бледного, с подрагивающей челюстью. Может, он и теперь хотел им нравиться, девушкам имеется в виду, тем более что одна как раз хозяйничала на кухне и тоже вышла, почувствовав, что происходит что-то неладное. А впрочем, может, ему просто жаль стало бедного Ванечку, он готов был за него вступиться или как-то уладить конфликт, предотвратить назревавшее. Он к ним совсем близко подошел (а цепь все вертелась пропеллером, издавая мерзкий свистящий звук), на самый порог, как бы загораживая вход. Что-то он им тихо сказал, никто не расслышал, хотя все молчали, ожидая, что все само как-нибудь разрядится. Иногда ведь и вправду все вдруг расходится само собой, без последствий, вопреки негвесии, не достигая пика, но, как утверждал Ванечка, это тоже форма негвесии, у которой бывают разные стадии.
Не слышно было, что сказал Костя, но зато все услышали, что сказал тот, квадратный, с цепью, вожак (или кто?): "Ты нам нравишься, мы тебя трогать не будем, а вот этот, – и он кивнул на Ванечку, – он нам нужен, выяснить кое-что", – и он сильнее крутанул цепь. Он так сказал, но Ольшанский, еще больше порозовев, тихо ему что-то возразил, отчего квадратный задумался, глаза опустил, хотя цепью продолжал поигрывать. Ловко у него получалось.
Тишина повисла на некоторое время.
"Ладно, – выговорил он наконец, обращаясь к Ольшанскому, но также и в сторону Ванечки, – замнем на время, пусть считает, что повезло".
И все. Отхлынуло от двери, откатилось. Не прошли персы Фермопилы.
Картошка, дозревая, пахла все аппетитней. Насупившийся Ванечка снова сидел за столом с картами в руках, молча, теперь уже с красным, горящим лицом, а Костя Ольшанский канул в прохладной темноте вместе с теми (шестеро или семеро их было), сказав только, что скоро вернется. Он ушел, а все сидели и напрягались, не происходит ли там, в темноте, что-то неладное, неправильное, не расплачивается ли Костя за свою смелость, разумеется, возвысившую его в общих глазах. Да, он ушел один, в закулисный мрак, вслед за тем парнем с цепью, махнув напоследок рукой: дескать, ничего, все в порядке, не волнуйтесь. И все теперь с нетерпением ждали его возвращения. Ванечка же машинально кидал карты, игра потеряла смысл, все думали про
Константина и что там происходит в непроглядной влажной тьме с пряными ночными запахами.
Всё, впрочем, слава Богу, обошлось. Через какое-то время, может, и не очень долгое, Костя вернулся. Распаренный, всклокоченный, поставил на стол бутылку водки, оглядел всех небесными глазами, ну что, выпьем, сказал, и никто даже не задал вопроса, в честь чего, принес и принес человек бутылку, как бывает иногда, – сюрприз!
А между тем что-то переменилось с того раза. Вечерами Костя стал часто исчезать. Никто не знал куда и зачем, а он никому не говорил.
Он и раньше не баловал особой разговорчивостью, только смотрел, не мигая голубыми глазами, как бы чуть снисходительно. Как старший на младшего, хотя были и постарше его. Тот же Ванечка, который, между прочим, и в армии успел послужить, и поработать, а не так чтобы сразу со школьной скамьи, как Ольшанский…
Пару раз к Косте наведывался кто-то из местных, вызывали его, о чем-то недолго переговаривались, иногда вместе и уходили. Похоже, он с ними всерьез скорешился, с местными, хотя и странно – что, казалось, ему с ними? Разного ведь совершенно поля ягоды.
Это, однако, даже придавало ему какой-то особый вес, харизму, что ли. Может, он и был где-то в корнях своих отдаленных аристократом, но здесь как раз важней была его завязка с местными. Он словно посредник был между нами, пришлыми, и поселковыми. Хотя что, собственно? Ни мы им ничего не должны были, ни они нам. И стычек никаких больше вроде не было. Ванечка притих, не выступал, не нарывался на неприятности.
Мы почти и не соприкасались с ними, строили себе коровник, на танцы в местный клуб не ходили, жили совершенно отдельной, обособленной жизнью. За исключением, значит, Константина. Он-то с тех самых пор вращался в разных кругах. И с нами, и с ними. И в клуб ходил, если его звали (а его звали), и еще куда-то. Даже немного обидно бывало, когда он исчезал – вроде как пренебрегал нами, отдавая темпредпочтение. А ведь мы были ему ближе, все-таки учились и теперь вот работали, пусть и временно, вместе…
Еще настораживало, так это что Костя все чаще приходил сильно поддатый, даже на ногах с трудом держался. Приходил, молча валился на постель и так, не раздеваясь, засыпал. Даже и на утро была припасена бутылка, чтобы поправиться, он отхлебывал из нее, марсианский взгляд постепенно очищался от похмельной мутности. Не похоже на него. То есть и раньше выпить мог, но чтобы до такого доходило – не помнили.
Впрочем, что ж, никто его воспитывать не собирался. Всем уже здесь с этим дурацким коровником надоело – хотелось в город, к нормальной студенческой жизни с книжками, лекциями, киношками, вечеринками…
Между тем Ольшанский стал пропадать и на более долгий срок, не приходил ночевать и несколько раз прогулял работу. Его прикрывали, дескать, парень занемог, отлеживается, но ведь постоянно так продолжаться не могло, руководство все равно прочухает, да и отрабатывать за него приходилось. Вообще все медленней двигалось, а время поджимало.
Наверно, и впрямь надо было с ним поговорить. Конечно, его уважали, особенно за тот случай с Ванечкой. Ведь он тогда всем показал, что и один в поле воин. А ведь ему тоже могло крепко достаться. Теперь же сам Костя вызывал серьезное беспокойство, из-за него и график срывался.
Кто-то видел его с местными у клуба совсем никакого, с девицами.
Крепко занесло парня, никак не вернуться в прежнюю колею.
По-хорошему, помочь бы – только как? Совсем он обособился. Ладно, вечерами, но и когда на стройке перекур устраивали: хоть и сидел вместе со всеми, но вид отрешенный, лицо за сизоватым дымком бледное, слегка оплывшее, голубые глаза словно поблекли.
Ванечка однажды сунулся: все ли у него, у Кости, в порядке? В каком смысле? Ну вообще… Тот тонкие губы поджал, вроде как ухмыльнулся: ну да, а что? Не очень дружелюбно. Дальше Ванечка уже не рискнул. Тем же вечером Ольшанский снова исчез, а вернулся лишь под утро, залег и очнулся, когда уже все на работу уходили, ему нарочно будильником позвонили над ухом.
Бригадир Сева ему тогда сказал:
– Слушай, работать так работать, никто за тебя вкалывать тоже не нанимался. У тебя что, особые условия, что ли?
Сева не злой, однако и его допекло: сколь же можно?
Вот тут Костя неожиданно вскинулся, жилка на виске завибрировала:
– А ты думаешь как? Да, условия. Может, вы потому все целы и здоровы. Может, вас и не трогают, что я с ними тусуюсь. Что меня уважают.
Бригадир только фыркнул:
– А мне наплевать, с ними ты или с кем еще, мы сюда дело делать приехали. Может, и без тебя бы как-нибудь обошлось.
– Ты так считаешь? – зло сказал Ольшанский. – Лады, пусть так и будет.
Тем вечером снова его не было в общежитии, а ближе к полуночи, еще никто, правда, не спал, в дверь стукнули пару раз и тут же резко отворили. Там, за ней, как и в первый раз, замаячили в тусклом свете фонаря рослые фигуры, заслонили проем.
– Эй, кто тут главный? – хрипловатый, нетрезвый явно голос. – На минутку, потолковать надо.
Сева, бригадир, поднялся. А что ему еще оставалось делать?
– Иди, иди, не бойся, бить не будем. – За дверью нехорошо хмыкнули.
Все, кто был в комнате, тоже поднялись.
– Один, один, много пока не надо, когда другие нужны будут, мы скажем.
Сева вышел.
Нет, Ольшанского с ними не было. Точно. Сева бы разглядел. Разговор же произошел короткий: дескать, вы сюда деньги приехали зарабатывать? Значит, у нас их отнимаете. Это неправильно. Короче, должны вы нам. Хотите здоровье сохранить, делитесь. Иначе другой базар будет.