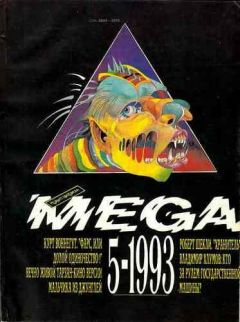Роберт Хелленга - 16 наслаждений
– Тихо, тихо, – сказал он. – Это не гонка. Такую работу нельзя выполнять наспех или в гневе. Сделай все остальное и вернись к этой линии, когда закончишь. В любом случае тебе надо добавить еще немного яичного белка.
Еще раз я взяла валик с плиты и приложила его к охлаждающей подушке. Теперь я наблюдала за синьором Сечи и, хотя он и не подал мне никакого очевидного сигнала, могла понять по легкому движению мускулов на его лице, когда бронза достигла точно необходимой температуры.
Я попробовала сделать вторую линию, слегка помогая весом своего тела. Кажется, все получилось. Это было как спортивное чутье: когда ты знаешь, что проплыл стометровку вольным стилем меньше чем за семьдесят секунд, еще до того, как время высветилось на табло, или в крикете, когда ты уверен, что отбил мяч, хотя он еще и наполовину не пересек поле, или в теннисе, при ударе левой, когда точно знаешь, что мяч коснется земли за три дюйма до штрафной линии. У меня больше не было проблем с прямыми линиями или с орнаментами по углам.
Однако еще оставались изгибы Санта-Тринита. Внутренний голос подсказывал мне начать с длинной плавкой части изгиба, а затем добавить маленькие дуги. Но синьор Сечи отметил: будет проще соединить линии валика с полукруглыми линиями, сделанными стамеской, а не наоборот (что, если подумать, казалось очевидным). Но прежде мне надо было четко обозначить две небольшие дуги по краям каждого изгиба, так чтобы дуги точно совпали, образуя единую линию.
Трюк заключался в следующем: полукруглую стамеску нужно поместить внутри изгиба и затем приложить давление быстро и ровно, чтобы ни один край оттиска не врезался в кожу. Я уже приноровилась к инструментам, и во мне также была какая-то движущая сила, ведущая меня, как река несет лодку. Все, что мне оставалось делать, это рулить.
Я не буду утверждать, что сделала великолепную работу, и не буду заявлять, что «I sonetti îussuriosi» поставили меня наравне с Томасом Бертелетом, или Роджером Пейном, или с такими великими переплетчиками, как Дуглас Кокерел и Роджер де Коверли, но я могу сказать, что те изгибы получились весьма удовлетворительно. Как будто Микеланджело сотворил ex nihilo[136] настолько совершенный изгиб, как некоторые изгибы человеческого тела. Мне было лестно осознавать, что я приложила руку к созданию этих изгибов.
Только одна вещь не удалась. Я начинала сильно потеть, и когда я собиралась соединить длинную плоскую дугу с крутой дугой в конце последнего изгиба, с моего лба на раскаленный валик упала капля пота. Валик зашипел, я подпрыгнула, словно меня укусила пчела, и слегка перелегла границу дуги. Вместо того, чтобы одна линия плавно перешла в другую, они пересеклись. Всего на каких-то три или четыре миллиметра, но, как мне казалось, этого было достаточно, чтобы испортить изгиб.
Вам никогда не хотелось, если вы работаете над чем-то, и допустили хоть малейшую ошибку, уничтожить свой труд окончательно? Вы взяли не ту ноту, и никто этого не заметил, но вместо того, чтобы продолжать играть, вы начинаете колотить по клавишам. Вы написали букву «а» вместо «е», переписывая стихотворение и вместо того, чтобы исправить ошибку, перечеркиваете страницу большой буквой «X». Должно быть, синьор Сечи понял, что происходило в тот момент у меня в голове, потому что он потянулся ко мне и взял мою руку в свою.
– Niente, – сказал он, – Ничего страшного. Никто ничего не увидит. Когда ты завтра придешь сюда, ты сама ничего не заметишь.
Говорят, шахматисты теряют до десяти фунтов во время игры, хотя и не делают физических усилий, из-за огромного напряжения. Именно так я себя чувствовала – как будто потеряла десять фунтов. Я была истощена. Я слишком устала, чтобы переделывать первую линию. Я уже сделала одну попытку до этого.
– Domani, – сказала я. – Давай закончим завтра.
Я стерла остатки золота тряпкой, смоченной в небольшом количестве кокосового масла. Тиснение было безупречным, не считая первой линии, которую легко переделать, и той единственной ошибки, которая торчала как пресловутый больной большой палец руки, или, по выражению итальянцев, как опухший нос.
Но синьор Сечи был прав. На следующее утро я даже не заметила ее. И только когда несколько дней спустя я показывала законченную книгу Сандро, я поняла, что произошло: синьор Сечи не только соскоблил золото там, где линии пересеклись вместо того, чтобы слиться, но и размягчил кожу, приподнял оттиск кончиком булавки и переделал соединение. Он тоже оставил свой след, по-своему, и я была ему очень признательна.
Глава 12
Gli Abruzzi
На третьей неделе января мы отправились в Монтемуро, в Абруцци, навестить семью Сандро. Был морозный день, а машина, старый «фиат-универсал», который Сандро взял на прокат у друга, не служила зашитой от холода. Печка работала плохо, но мы согревались собственным теплом. Лицо Сандро было свежим и сияло, словно он сидел за рулем «Альфа-Ромео». На нем была старая одежда, как будто специально по такому случаю, будто бы он был богачом, которому не надо одеваться модно.
Чем больше я узнавала этого человека, тем больше любила его. Я любила его таким, какой он был, – и за его лысину, и за его неутомимый uccello (его маленькую птичку, которая так сладко пела по ночам); я любила его за его внимательность; я любила его за то, что ему было так уютно в этом мире, и потому, что в то же время он был безнадежно не от мира сего; я любила его потому, что он никогда не получал по почте плохих новостей, и потому что он вложил половину своих денег в ресторан быстрого обслуживания, а вторую половину – в схему экспорта низкокалорийного вина в Соединенные Штаты. Я любила наблюдать, как он пересекает площадь; я любила его за то, что он ждал меня на станции, когда мой поезд возвращался из Прато; я любила приходить домой и видеть его ждущим меня, в своей старой шелковой пижаме. И я любила его за то, что узнала о нем от других, что казалось великим и героическим: например, в ночь, когда началось наводнение, он открыл двери своего дома для всех жильцов с нижних этажей, которым было некуда идти, и он вброд отправился в Уффици, чтобы помочь спасти картины в реставрационных мастерских, расположенных в подвальном помещении, и автопортреты в коридоре Вазари, который мог в любой момент обрушиться в реку.
И я любила его за то, что он хорошо знал свою работу, за то, что он был настоящим мастером своего дела. Он переживал за то, что он делал, боготворил то, что он делал, он посвятил свою жизнь спасению картин.
– Когда ты впервые влюбился? – спросила я его, размышляя вслух.