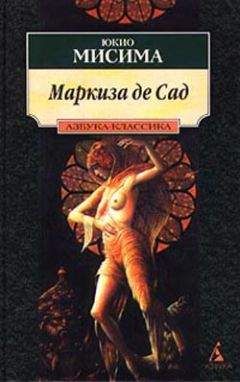Юкио Мисима - Запретные цвета
— Тебе не нужно имя. На самом деле красота не считается ни с каким именем. Фантом красоты под вывеской Юити, Таро или Дзиро никогда не околдует, никогда не обманет меня. Чтобы выполнять свои человеческие функции, ты вовсе не нуждаешься в каком-то имени. Ты — образец, типаж. Ты на сцене. Твое амплуа — «молодой мужчина». Не сыскать ни одного актера, который мог бы нести этот титул. Все они зависят от характера, личности, имени. Самое большее, на что они способны, это сыграть молодого человека Итиро, молодого человека Джона, молодого человека Иоханеса. Ты, однако, являешься в своем бытии живым воплощением универсального «молодого мужчины». Ты — осязаемый образчик «молодого мужчины», который присутствует в мифах, в истории, в социумах, в духе времени всех культур мира. Ты олицетворяешь все! Если бы тебя не было, то юность всех этих молодых мужчин давно превратилась бы в незримый траур. Твои брови служат прообразом для бровей миллиона других юношей. В твоих губах воплотился узор губ миллиона мальчиков. Твоя грудь, твои руки… — Нобутака легонечко теребил рукава зимней одежды Юити. — Твои бедра, твои запястья… — Своими плечами он прижался к плечам юноши и пристально посмотрел на его профиль. Затем потянулся одной рукой к столу и погасил свет. — Сиди тихонечко. Я умоляю тебя, не двигайся. Какая красота! Ночь уже кончается. И небо посветлело. Ты, несомненно, ощущаешь на своих щеках слабые-слабые проблески зари. Однако ночь еще не сошла с твоего лица. Твой профиль, совершенный, дрейфует на границе ночи и рассвета. Нет, не двигайся, прошу тебя.
Нобутака видел, как на стыке дня и ночи профиль юноши обретает очертания великолепного горельефа. Эта скоротечная резьба сотворила нечто непреходящее. Его профиль ассоциировался с вечным образом, а зафиксированная во времени совершенная красота стала нетленным творением.
Спозаранку подняли занавески. На стеклах отражался белесый пейзаж. Ничто не заслоняло вид на море из окна этой маленькой комнаты. Сонно мигал маяк. Мутные блеклые лучики над морем удерживали крутые обвалы облаков на рассветном небосклоне. Будто обломки кораблей, омываемых ночным приливом, в саду стояла рощица зимних деревьев, переплетаясь оцепенелыми ветвями.
Юити потянуло в глубокий сон — опьянение и бессонница подействовали на него внезапно. Из зеркала выскользнул нарисованный речами Нобутаки портрет Юити и медленно повалился на оригинал. Волосы Юити, прижатые затылком к спинке дивана, наполнились тяжестью. Желание соединилось с желанием, возросло вдвое. Нелегко описать это слияние будто бы спящих желаний. Душа задремала над душой. Безо всяких усилий со стороны желаний душа Юити воссоединилась с душой другого Юити, который уже влился в него. Юити соприкоснулся лоб в лоб с Юити; тонкие брови соприкоснулись с тонкими бровями. Эти полуоткрытые во сне губы юноши натолкнулись на красивые губы его двойника, о котором он грезил…
Первые проблески зари проникли из-за облаков. Нобутака выпустил из ладоней лицо Юити. Его пальто уже лежало на стуле. Он снял подтяжки с плеч. Снова взял лицо Юити обеими ладонями. Губы его самодовольно прижались к губам Юити.
На следующее утро, в десять часов, Джеки нехотя протянул бывшему графу свое кольцо с кошачьим глазом.
Глава четырнадцатая
ОДИНОКИЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ
Завершился год. Юити исполнилось двадцать три согласно календарю. Ясуко — двадцать[32].
Новый год Минами отмечали в семейном кругу. Это были в общем-то радостные деньки. Во-первых, Ясуко забеременела. Во-вторых, матушка Юити неожиданно поправилась и встретила Новый год в добром здравии. Было, однако, что-то омрачающее и отчужденное в новогодних праздниках. Зерна эти посеял Юити.
Его нередкое отсутствие по ночам и, хуже того, участившееся отлынивание от супружеских обязанностей Ясуко списывала порой после тягостных размышлений на счет своей назойливости или ревнивости, но все же это продолжало страшно ее мучить. В семьях друзей и родственников ей приходилось слышать, что нынче многие жены возвращаются под отчий кров, если муж хотя бы раз не ночевал дома. Кроме того, казалось, что Юити где-то потерял природную доброту своего сердца, часто оставался на ночь на стороне без предупреждения, не внимая ни советам матери, ни мольбам жены. Он замыкался, все реже сияла белизна его зубов.
В высокомерии своем он был весьма далек от образа байроновского уединения. Его одиночество нельзя было назвать созерцательностью; гордыня его вырастала из необходимости, а ее порождал стиль его жизни. Он не отличался от того беспомощного капитана, который молчаливо и горестно наблюдает за крушением собственного корабля. Правда, крах этот происходил с равномерной скоростью; преступник, то есть Юити, даже не был виноват — ведь происходило простое саморазрушение.
После праздников Юити вдруг объявил, что получил работу личного секретаря председателя правления одной сомнительной компании. Ни мать, ни жена не придали его словам никакого значения, пока он не сообщил, что этот председатель вместе с женой собираются к ним в гости. Матушка растерялась, захлопотала. Озорства ради Юити не назвал имени, но когда на пороге их дома появился не кто иной, как сам господин Кабураги с супругой, удивлению матери не было предела.
В то утро запорошило легким снежком, после полудня все затянуло туманом и сильно похолодало. Бывший граф сидел на полу гостиной перед газовой грелкой, скрестив ноги, вытянув вперед руки с таким видом, будто он вступал в переговоры. Графиня была шумной и веселой. Никогда прежде эта парочка не была настолько дружелюбной. Заканчивая рассказывать очередную забавную историю, супруги переглядывались и смеялись.
Еще в прихожей, идя приветствовать гостей, Ясуко слышала из гостиной резковатый смех графини. Уже давно природная интуиция подсказывала ей, что эта женщина была одной из тех, кто любил Юити, но из-за какой-то зловещей и противоестественной проницательности, вызванной беременностью, она прекрасно понимала, что Юити терзает вовсе не Кёко, не госпожа Кабураги, а кто-то другой. Это была, вне сомнения, третья женщина, которая еще не попадалась на глаза. Всякий раз, когда она пыталась представить лицо женщины, которую Юити скрывал, Ясуко чувствовала не ревность, а мистический страх. В итоге, когда высокий звонкий голос госпожи Кабураги пронзил ее уши, она нисколько не заревновала; по правде говоря, ее самообладание навряд ли было потревожено.
Изнуренная переживаниями, Ясуко обрела привычку к боли. Словно умненький зверек, она навострила уши, насторожилась. Она понимала, что будущее Юити зависит во многом от положения ее родителей, и полусловом не обмолвилась с ними о том, как настрадалась из-за своего Юити. Матушка Юити восхищалась Ясуко, ее старомодной терпимостью. Мужество и прилежание молодой невестки делали ее патриархальным образцом женской добродетели; можно сказать, Ясуко даже полюбила меланхолию Юити, которую тот скрывал за фасадом своей гордыни.