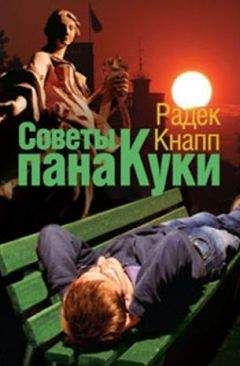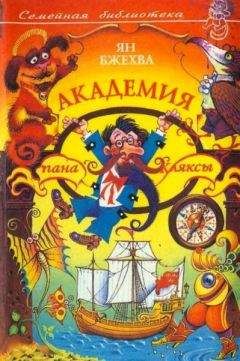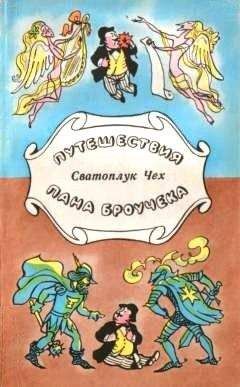Шерли Грау - Кондор улетает
— Начинаются занятия, — сказал Энтони. — Мне пора возвращаться.
— Я думала, ты останешься здесь, — сказала она. — Ну, пропустишь год, что тут такого? Ты ведь моложе всех в своем классе.
Это была правда.
— Почему ты мне раньше не сказала, мама?
— Тебя ведь это не интересовало, Энтони.
И это тоже было правдой. Весь последний месяц он с ней почти не разговаривал.
— И дедушка совсем не приезжает.
— Я попросила его не приезжать, пока ты не поправишься. Мне казалось, тебе все равно.
— Если бы он приехал, мне, возможно, было бы не все равно. — Его приводила в ярость эта безграничная преданность, эта самозабвенная заботливость.
— Энтони, ты должен говорить мне об этом, если хочешь, чтобы я знала.
— Ну, так я хочу, чтобы он приехал.
— Энтони, — ровным голосом сказала мать. — Ты забываешь, что у твоего дедушки был сердечный приступ, а теперь у твоей тети этот ужасный развод. Они оба заняты.
И это тоже было правдой. У его матери было много отдельных правд, но стоило сложить их воедино, и они переставали быть правдой.
— Я написал папе письмо — просил его приехать домой. Почему он мне не ответил?
— Твой отец пишет, когда у него есть на это время, Энтони.
— Но он ни словом не упомянул о своем приезде. Даже не написал, что не сумел добиться отпуска. А уж об этом-то он написал бы, если бы получил мое письмо.
— Я выбросила это письмо, — спокойно сказала мать. — Оно было глупым и только очень его встревожило бы.
— Ты его не отправила…
Его гнев угас перед этой прямолинейностью. Он вернулся в тень веранды и уставился на залив, на освеженную дождем полосу голубизны, где никогда не проходили суда, не появлялись лодки. Только чайки — и то изредка.
Позже, когда она села возле него, сняла садовые перчатки и провела руками по платью, он спросил:
— Почему ты все время молишься?
Она тоже устремила взгляд на залив.
— Потому что бог — податель нашей жизни и наша надежда на вечное спасение.
И тогда Энтони перестал задавать вопросы.
Теперь, каждое утро выходя из затемненного дома на яркое сентябрьское солнце, он видел, каким ужасающе пустым был Мексиканский залив, каким голым и неподвижным. Он не хотел больше глядеть на него и уходил за дом. Там были цветники и сады, а за садами тянулись поля и луга, где скот тучнел на мягкой густой траве, где дикие птицы слетались кормиться на полоски, специально засеянные гречихой. А за полями вставал лес — желтовато-зеленый сосновый бор, где песок у подножья стволов был устлан ковром бурой хвои, а подлесок заменяли редкие купы пальметто. Он ни разу не побродил там — его мать боялась змей. Ему приходилось видеть крупных гремучек — работники убивали их и притаскивали к кухонной двери, а поварихи и горничные сбегались поглазеть на них и хихикали. С самых больших сдирали кожу и прибивали к стене сарая сохнуть. Живой гремучки он ни разу не видел. Так много того, чего он не видел, не делал…
— Ты перебрался сюда? — сказала мать.
— Мне нравятся деревья, — сказал он.
Их листва трепетала в прозрачном воздухе, и они не казались пустыми.
Через два дня он позвонил деду — мать была в саду.
— Ты приедешь в субботу?
Дед ответил:
— Твоей матери, по-видимому, гости сейчас ни к чему.
— Я хочу, чтобы ты приехал.
Дед как будто задумался, но сразу же сказал:
— Энтони, когда твоя мать говорит, чтобы ее оставили в покое, я ничего сделать не могу.
— Тогда я приеду в Новый Орлеан.
— Твоя мать говорит, что тебе надо оправиться от инфекционного заболевания.
— Это сказал доктор?
— Это сказала мне она. — В голосе деда послышалось легкое раздражение.
— По-моему, я болен, — медленно сказал Энтони. — По-моему, я очень болен, и я хочу уехать отсюда.
— Я поговорю с твоей матерью.
Энтони повесил трубку.
Она сказала:
— Мне звонил дедушка.
— Можно мне уехать?
— Когда ты окрепнешь, Энтони.
— Что у меня? — спросил он.
— Утомление от быстрого роста.
— Ты держишь меня тут. Ты не даешь мне уехать.
— Энтони, не говори глупостей.
— Ты даже папе не сообщила.
Ночью он написал письмо отцу и на рассвете пошел на почту в Порт-Беллу. Он думал, что сумеет дойти туда, прежде чем мать его хватится. И он почти дошел. Ватага негритянских детей, которые отправились спозаранку ловить раков, нашла его у дороги, там, где начинался городок. Он по пояс увяз в жидкой грязи канавы, куда упал, когда потерял сознание.
Потом, когда он окончательно разобрался, где он (у себя в спальне, а у кровати сидит его мать), когда он окончательно удостоверился, что потерпел неудачу, его гнев исчез и он перестал ощущать себя в ловушке.
— Мама, — сказал он, — чем я болен? Что говорил доктор?
— Ничем.
— Мама, — сказал он, — ты лжешь.
— Энтони! — Она пощупала ему лоб. — У тебя температура, и ты переутомился.
— Он сказал, что я умру.
Он смотрел, как бледнеет ее загорелая кожа. Желтеет, а не белеет, подумал он. Смешно!
Он продолжал смотреть на нее, на оледеневшее лицо, на идущую пятнами кожу и не испытывал страха. Или хотя бы тревоги. Ему было даже приятно, что он отгадал. И очень приятно, что он сумел причинить ей боль.
— Энтони, ты не должен этого говорить.
Он рассмеялся. Глубоко внутри себя. Смех возник, как легкая щекотка где-то у позвоночника, и начал разливаться по телу, и вскоре он уже весь трясся. Но наружу не вырвалось ни звука, ничто не нарушило висящей в воздухе тишины. А он продолжал смеяться — смеяться наедине с собой.
Теперь он чувствовал себя почти веселым и почти счастливым. Внутри него непрестанно бурлил смех.
— Ты вчера ночью много молилась, — сказал он матери, улыбаясь ей. — Может быть, тебе следовало бы молиться поусердней.
Она стояла между ним и светом — высокий стройный силуэт на фоне блеска. Ее лица он не различал. Она отвернулась, ничего не ответив. Он снова заговорил:
— Где же священники, мамочка?
— Энтони, тебе становится лучше.
— Нет, — сказал он. — Нет.
Энтони перестал есть. Он пил ледяной чай, опустошая кувшин за кувшином.
— Энтони, ты должен есть, — сказала мать.
— Я хочу вернуться в Новый Орлеан. Я хочу, чтобы папа знал.
— Нам нечего делать в городе, Энтони, ты же знаешь.
Он кивнул, улыбнувшись своей легкой тайной улыбкой.
— Ты знаешь название, но не хочешь сказать мне. А я знаю, какая она, но не знаю, как она называется.
— Господь — источник многих чудес, — внезапно сказала мать. — Все в его воле.
— О, да! — сказал Энтони, и на этот раз его спрятанный смех выплеснулся наружу.
Но потом ночи превратились для него в муку. Проспав час-другой, он уже не мог больше уснуть. Он зажигал лампу, садился на кровати и старался настроить приемник на какую-нибудь ночную станцию. Его мать — она тоже теперь словно никогда не спала — входила к нему узнать, почему он проснулся, а он нарочно не отвечал и лежал, повернувшись к ней спиной, пока она не уходила.
(Казалось бы, она должна плакать — он недоумевал, почему она не плачет. Ее глаза даже глухой ночью оставались круглыми и сухими. Но в них был какой-то свет. Особый свет — откуда бы он ни брался, чем бы он ни был. Таких ярких глаз он никогда не видел. Как автомобильные фары. Лучи искусственного света, озаряющие дорогу. С такими глазами она видит и ночью… Она может сотворить ими чудо…)
Он научился прокрадываться вниз по черной лестнице — самой дальней от комнаты его матери — и выходил наружу через кухонную дверь. Иногда он сидел на веранде, слушая, как еноты и скунсы гремят жестянками в мусорных баках. Иногда он ходил по садам, рассматривая форму и расположение листьев. А иногда он спускался на берег, уходил на дальний конец длинных деревянных мостков и играл сам с собой, будто он ловит при лунном свете крабов — золотых, усаженных рубинами, с жемчужинами вместо глаз.
Ему становилось все труднее и труднее уходить так далеко, хотя он несколько раз останавливался передохнуть. Скоро, думал он, я уже не смогу выходить, моя мать навсегда запрет меня внутри этого дома.
Он раздумывал об этом, сидя на шершавых досках мостков. Опрокинутая луна висела над самым горизонтом, и ее отражение сияло в застывшем зеркале воды. Он смотрел на усеянную звездами гладь залива, бесконечно пустого, совершенно неподвижного. Он поглядел вниз и увидел на мерцающем лунными блестками стекле привязанную под мостками пирогу. Сыновья садовника забыли отогнать ее в лодочный сарай.
Наклонив голову, он следил за луной правым глазом, а за пирогой — левым. Опрокинулась чаша луны — расплескалась вода… но в ночном небе не было заметно никаких предвестников дождя.