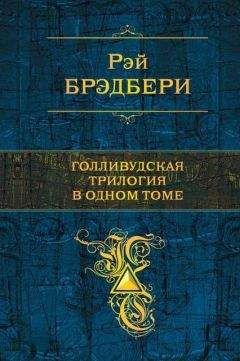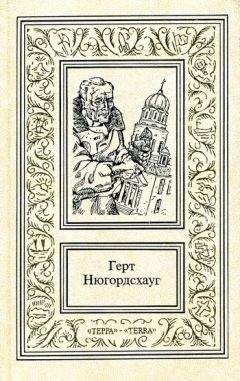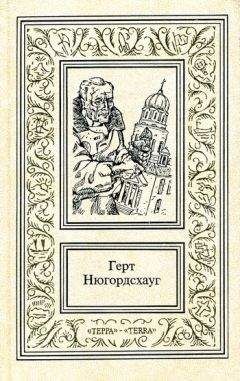Юрий Герт - Ночь предопределений
На столе, во след выпитой при входе в дом пиале кисловатого айрана, уже появились ломтики казы и чужук из жесткой, прокопченной конины, и желтеющее в стеклянной вазочке масло, и колобки нежно подрумяненных баурсаков, и белый, словно слепленный из известняка и под стать ему твердостью курт, и еще теплые, испеченные на углях лепешки-табанан, которые так приятно, не сминая упруго пружинящего теста, разламывать руками… Судя по всему, включая и армянский «КВ», его тут ждали, случайная встреча в музее для Жаика отнюдь не была случайной.
Она не была, возможно, случайной, хотя для Жаика в подобных встречах корысть заключалась в единственном: ему не хватало собеседника — тем более — понимающего собеседника, сам же он был великий говорун, старина Жаик, и речь его всякий раз напоминала Феликсу скользящий в густом коверном порее узор. В этом узоре не было ни начала, ни конца, он легко уводил к античной Греции, возвращался к Хиросиме, петлял среди костров инквизиции и с роковым постоянством упирался в тридцать седьмой год…
Однако на сей раз Жаик изменил своей страсти к широким обобщениям. Оказалось, что отсюда, из своего философического далека, он довольно пристально следил за Феликсом. Ему были откуда-то известны многие подробности — возможно, благодаря давним, тщательно сохраняемым связям, общим знакомым, — как и сотни лет назад, здесь по-прежнему действовал узун-кулак… Впрочем, он тут же уловил, что разговор этот Феликс поддерживал нехотя, и сократил свои расспросы, но при всем том не сумел погасить грустного сочувствия в упрятанных в узенькие щелочки глазах.
— А кстати, — сказал Феликс, — кто такой этот ваш статистик?.. — Ему не терпелось переменить разговор, замять возникшую неловкость. Но дело было не только в этом. И не в одном лишь естественном интересе к человеку, о котором он услышал нынешним утром. После разговора с Айгуль к этому интересу прибавилось еще и нечто такое, отчего при первых же словах Жаика он ощутил затаенное злорадство, — столь затаенное и постыдное, что не признался бы в нем даже себе.
— Он дурак, — отозвался Жаик. — Ты о нем уже слышал?.. Дурак, дурак, — повторил Жаик, но без раздражения или злости, а так, как говорят об отволновавшем и решенном. — Глупый человек… В его годы пора быть умнее, понимать кое-что. А он — всех озлобил, ничего не добился… Просто — глупый человек, баламут!
— Пора, пора быть умнее, — повторил он, пододвигая к Феликсу тарелочку с чужуком. — Ты возьми, к примеру, Христа, — заговорил он, неожиданно загораясь. — Как ты считаешь, он был умный человек, правда?.. Христос, Магомет, — они ведь были умные люди, а?.. Ты, между прочим, Эрнеста Ренана почитай, тоже замечательный был человек, а уж какой философ, какой стилист — бож-же мой!.. — Жаик на мгновение блаженно зажмурился, цокнул языком и покачал из стороны в сторону головой. — Я тебе скажу, такое красноречие только у нас на Востоке встречается… Обязательно почитай, если не читал.
— Обязательно, — кивнул Феликс, грызя чужук. — Так что же статистик?
— Ты погоди, — сказал Жаик. — Я к тому, что Иисус Христос был умный человек, его таким и Эрнест Ренан считает — не богом, а умным, даже гениальным человеком… Хотя, по моему разумению, — усмехнулся он, прищурясь, — гений — это почти что бог, а ты как думаешь?.. Но я о другом. Христу всего тридцать три года было, когда он умер. То есть, по нашим понятиям, он был еще совсем молодым человеком. Да к тому же и не очень образованным. Суди сам: он ведь никуда не выезжал, ничего не видел, кроме своей Галилеи. А это было глухое, захолустное место, по размерам куда меньше любого нашего района, и в стороне от городов, от больших дорог, жили там крестьяне и рыбаки — люди простые, добрые, но невежественные и темные. У кого бы он там учился? В те времена были уже и Сократ, и Платон, и Лукреций, так ведь он про них даже не слышал. Он и в Иерусалиме-то появился в самом конце… Вот и получается, что с одной стороны был он человек умный, прямо-таки гениальный, доходивший до всего собственным разумом и способностям, а с другой… С другой — это был еще совсем молодой, необразованный, наивный человек, и погиб он, далеко не дожив до возраста зрелости и мудрости. Ну, а если бы дожил? И умер, положим, не в тридцать три, а в шестьдесят шесть лет? К чему он бы тогда пришел? Ты когда-нибудь думал об этом?..
Жаик взглянул на Феликса с торжеством, потому что был, понятно, заранее убежден, что тот ни о чем подобном не думал, и с внезапной лихостью опрокинул стопку, которую до того держал в руке, плавно дирижируя ею в такт неторопливой, размеренной речи.
— Он ведь был, как бы тебе сказать… Романтик! Да, вот именно — романтик!.. Он ведь уверен был, что человека больше может интересовать царство божие, чем… Ну, не знаю… Те же американские джинсы, к примеру, — теперь все на этих джинсах помешались, даже в газетах про них пишут, больше не о чем… — Он рассмеялся, однако тут же с тревогой покосился на ноги Феликса, вытянутые на кошме. И убедившись, что на нем обыкновенные брюки в мелкую клеточку, продолжал успокоенно: — А что человек в силах простить врагу своему?.. Мало того — подставить правую щеку, если ударят по левой?.. Хотя тут дело не столько в прощении, а в совести, — он ведь в то, наверное, верил, что тому, кто ударил, стыдно станет, совесть в нем проснется и он второй раз уже руки не подымет… Я говорю тебе: идеалист он был, романтик!.. Или возьми, как он учил, что правая рука не должна знать, что делает левая… Это в том смысле, что творить добро следует без всякой корысти, не для наград или славы, а по велению сердца, совести… Вот он во что верил — и, до того, что даже на Голгофу за это пошел!
— Ну, а если бы он до шестидесяти шести лет прожил? — Жаик перегнулся, навис над столом и оттого как бы придвинулся к Феликсу. — Он бы… Во что бы он тогда верил?.. Или он тогда бы уже иначе рассуждал? — В груди у Жаика, выпуклой, словно налитой жиром, что-то пискнуло, клекотнуло, как в тот момент, когда он говорил у себя в кабинете, в день приезда Феликса.
Впрочем, он тут же взял себя в руки.
— Ты ешь, — заговорил он, пододвигая к Феликсу закуску. — Вот казы… Масло свежее… Баурсаки… Ешь, дорогой, рад тебя видеть в своем доме… Сейчас Хадиша мясо принесет, а пока ешь… — Он опять улыбался, скрестив ноги и упершись локтями в широко расставленные колени. — Ты у меня про Темирова спросил, вот я тебе и отвечаю. Что Иисусу было простительно, для Темирова не простительно. Кое-что в жизни он повидал, до седых волос дожил, а каким дураком был, таким и остался. Ничего, ничего-о-шеньки не понял! (Он, зажмурясь и с явным удовольствием, нараспев, протянул это «ничего-о-шеньки»). Не понял, — повторил он со вздохом — нет…
Мудрец, подумал Феликс и, прикрывая раздражение смехом, возразил:
— Жаке, вас не трудно поймать… Выходит, можно дожить до седых волос — и остаться, как вы говорите, романтиком-идеалистом?.. Или вы полагаете, что наш добрый Зигмунт Сераковский, проживи он, скажем, еще два десятка лет…
— Не знаю, — всем лицом улыбнулся Жаик, — не знаю, как Сераковский, зачем гадать?.. Сократ советовал: «познай самого себя…» Вот ты шагнул, и уже порядком, за возраст Христа, и что — разве остался тем же, каким был?.. Хадиша, — закричал Жаик, — ау, Хадиша, кто там?.. — И сам, опершись, на руку, с кряхтеньем поднялся: во дворе заливалась лаем собака, слышался голос Хадиши…
Удар был, что называется, под дых, крепкий удар, хотя сам Жаик, похоже, и не подозревал этого. Но Феликс это ощутил, и пока Жаик отсутствовал, он попытался оправиться, подыскать достойный ответ. «А сам ты…» И с каким добродушием это было сказано…
Христос, подумал он. Голгофа, статистик… Да я-то здесь при чем?.. Последние слова были те же, что и в разговоре с Айгуль, хотя он этого не заметил. Нет, в самом деле… Ему стало душно в комнате с наглухо затворенными окнами. Ноги занемели от сидения в непривычной позе, в коленях поламывало. От испеченных в жиру баурсаков, от прослоенного салом чужука, пальцы лоснились. Он поискал, чем бы вытереть руки, и поднялся, с наслаждением разминаясь.
Он поднялся как раз в тот момент, когда в комнату вернулся Жаик с еще одним гостем, то есть он, разумеется, вошел за ним, пропустив нового гостя вперед, и получилось так, словно Феликс поднялся тому навстречу. Вошедший, должно быть, расценил это по-своему и с подчеркнутым достоинством протянул Феликсу руку. Скорее даже не протянул — подал, отметил про себя Феликс, с неловкостью за свои жирные от баурсаков и чужука пальцы, пожимая почти не гнущуюся ладонь.
Жаик представил их друг другу. Звали вошедшего Сарсен Баймурзин, работал он в редакции местной газеты, — и то, и другое Феликс пропустил мимо ушей. Без особого интереса Феликс рассматривал, сидя за столом, его лицо, широкое и бледное редкой в этих местах бледностью, скорее всего — нездоровой. О чем ни заходил разговор, оно сохраняло выражение значительности и важности… Нет, не значительности и важности, это было бы слишком просто, а — непроницаемости… Вот именно, подумал Феликс, непроницаемости… Даже за тусклой улыбкой, иногда его освещавшей, чудилась тонкая, откованная из стали броня, прочный, укрытый под одеждами панцырь… Он не знал, как вести себя с этим неожиданно возникшим гостем, пока не заподозрил, что его появление было предусмотрено, и мало того, что предусмотрено, — в нем для Жаика и заключалась главная цель, так сказать — кульминация их сегодняшней встречи.