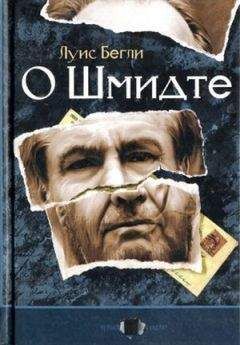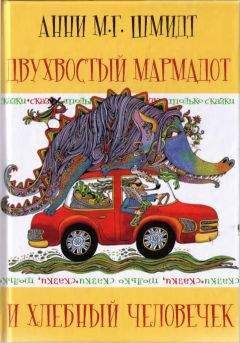Вионор Меретуков - Меловой крест
И вдруг меня, как громом, поразила мысль. Господи, что я делаю? Я же теряю время!
Я теряю время, а что ждет меня завтра, не знает никто. Кроме Создателя. А Он, как известно, не отличается чрезмерной болтливостью. Он ничего не скажет. Сколько мне отмерено?.. Не скажет ведь… Не кукушка… На примере Юрка я понял, какой хрупкой может оказаться жизнь. Любая жизнь. И моя — в том числе…
Дины нет, и неизвестно, когда она вернется. Я от нее уже давно не имею вестей. Я сплю с другими женщинами… Сплю, потому что я мужчина, и мне нужна женщина…
Я теряю время…
Мои мысли приобретают телеграфный стиль.
Это оттого, что я немного выпил.
На чем я остановился? Мне нужна женщина… Нет, не то. То есть, женщина, конечно, нужна, но я остановился не на этом. Ах, да, вспомнил. Я теряю время… Мне необходимо забрать свои вещи из дома Дины. Заодно все-таки узнать, нет ли новостей от нее или о ней.
Вырвавшись из логова горбуна, я так ни разу не был в особняке на Арбате. А там ведь мои картины, которые с некоторых пор опять стали мне дороги. И они должны вот-вот стать моим козырем в войне с незримым пока супостатом, в которого с некоторых пор для меня могут превратиться все те, кто — в перспективе! — способен помешать моим грандиозным планам.
Завтра же поеду и заберу, решаю я, и опять принимаюсь за чтение.
Смотрю следующие странички. Чем дальше в лес, тем больше дров.
Покончив с младенческой Каббалой, автор перешел к прогнозированию будущего. Ну и почерк же у него! Когда он все это писал? Сколько ему было лет? Почему он хранил всю эту галиматью? Неужели все властолюбцы ненормальны с детства?
А чем мы, все остальные, лучше?
Например, я, мечтающий о славе? Больной этой мыслью тоже с детства?
Почему я не могу жить спокойно без этой изнуряющей воображение и душу мечтой о славе?
Сколько люди совершили всяческого зла из-за низкого, подлого стремления к известности, восторженному обожанию, раболепному поклонению, оправдывая это невозможностью отказаться от неведомо как попавшего в их голову, когда они были еще детьми, всепожирающего желания выделиться из безликой массы людей и возвыситься над ней?
"Когда мир падет к моим ногам, — читал я, — я буду править людьми, как управляет дрессировщик цирковыми лошадьми или учеными свиньями. И тогда я буду счастлив. И мне будет хорошо…"
Нет слов, сказано сильно… Конечно, тебе будет хорошо, скотина!
Почему горбуну так не понравился Шварц? Ведь они похожи, как две капли воды.
"…И мне будет хорошо…"
Я вдруг понимаю, что и мне по душе эти слова…
* * *…Я тяну время. Это отражается на многом. Я никак не могу решиться. Трудно стать негодяем. Трудно преодолеть короткое расстояние, ставшее неожиданно длинным, которое отделяет порядочного человека, каковым я всегда себя считал, от мерзавца…
Я бездельничал, слоняясь по квартире, когда раздался телефонный звонок. Я стоял рядом с телефоном, не решаясь снять трубку. Что-то говорило мне, что звонок не совсем обычный. Так и оказалось.
— Это Марго, — услышал я мальчишеский голосок.
Я переминался с ноги на ногу.
— Это Марго, — опять сказала она и засмеялась.
Почему бы и нет, подумал я… Девица сочная, молодая… Пусть приедет, что-то же в ней есть помимо проколотого булавкой пупка…
Короче, приехала она. Юная, соблазнительная, в джинсах и короткой майке, позволявшей любоваться отрытым загорелым животиком с очаровательным пупком.
Едва поместившись в дверном проеме, рядом с ней стоял огромный детина, одетый, как мне поначалу показалось, в форму капитана дальнего плавания. На детине была фуражка неизвестного яхт-клуба. Это я увидел, когда присмотрелся к детине и его одежде более внимательно. У моряка были наивные голубые глаза жулика, белозубая улыбка и коротко подстриженная светлая борода.
— Исфаил Бак, — вежливо представился гигант.
У меня брови поползли вверх.
— Шучу, — успокоил меня яхтсмен, — Виталий.
И протянул лопатообразную ладонь, которая оказалась на ощупь удивительно мягкой.
Я посмотрел на Марго.
Если она спит с этим викингом, ей, должно быть, приятно прикосновение его больших, широких ладоней.
…Накануне я сглазил предполагаемых любовников Дины. И теперь жил в ожидании сообщений в газетах о смертях знаменитых теноров и импресарио.
Я представил себе, как миланский театр "Ла Скала", не выдержав-таки верхнего "ля" моей бывшей возлюбленной, рухнул и погреб под своими обломками весь цвет современного оперного искусства, включая Корелли, Доминго, Паваротти и Коррераса, которые как раз в этот расчудесный летний вечер, думал я, развлекали обвешанных драгоценностями толстосумов, хором распевая веселые песенки из оперы Верди "Аида"…
(При этом, конечно, Дина не должна была пострадать. А вот осознать — должна…)
Ах, как прекрасно, должно быть, звучали голоса великих под сводами лучшего театра мира! Как, вероятно, неистовствовала публика, потрясенная ангельским пением вышепоименованных солистов! Какие бушевали аплодисменты, как восторженно надрывали глотки бисирующие молодые люди, любящие почему-то всегда и везде бывать вместе!
Но о жалости следовало позабыть.
Сглаз должен был быть основательным.
Окончательным и бесповоротным.
Мой беспощадный, свирепый сглаз должен был пробрать до печенок весь подлунный мир.
На свете будет еще много всяких там Корелли и Паваротти.
Одним Паваротти меньше, одним Паваротти больше… Какая разница?..
Оглашая окрестности ужасающими звуками, прекрасные стены величественного здания покроются безобразными трещинами сразу в нескольких местах. Стены грузно осядут, поднимая красную пыль до самых небес, раздастся жуткий стон тысяч людей, и…
Никем и ничем непобедимое желание разрушать, калечить, уродовать, ломать, крушить, приводить в негодность, садистски при этом похохатывая, заложено в нас с детства.
Я предвкушал дьявольское наслаждение…
Хотя и предполагал, что сглазить ее любовников мне будет не просто. Как-никак у Дины в предках — всякий цыганский сброд во главе с шаловливым бароном и успешно волхвовавшей бабуленцией. Дина могла и воспрепятствовать…
— У вас нет случайно с собой свежих газет? — обратился я к викингу. В последнее время в моем голосе — я это слышу! — все чаще появляются ноюще-визгливые нотки, какие бывают у сварливых старых перечников, которым, как ни старайся, никогда не угодишь.
Молодые люди устроились в креслах. Гигант сидел в напряженной позе, держа капитанскую фуражку на коленях. Когда он снял свой замечательный головной убор, то на макушке его светловолосой головы обнаружилась неожиданная плешь, которая напоминала миниатюрное плато.
На это плато очень хотелось поставить блюдце, на него — чашечку, в нее налить чаю, положить три кусочка сахару и, дождавшись, когда сахар начнет оплывать и опадать на дне, ложечкой его размешать до полного растворения.
Марго развалилась в кресле, красиво скрестив ноги, и разглядывала картину Алекса, которую он подарил мне когда-то на день рождения.
На огромной картине был изображен сам Алекс, в ту пору бравый, тридцатилетний мужчина, который, казалось, в полном изумлении из своего далекого прошлого таращился на соблазнительный пупок Марго.
Мощная фигура Алекса разместилась на сюрреалистическом фоне обширного, вспученного с одной стороны (с известной долей уверенности могу предположить, что Алекс, когда писал картину, был безобразно пьян), клонящегося к горизонту, кладбища; позади Алекса виднелась надгробная плита с моей фотографией и датами рождения и смерти. Плита была грубой, кустарной работы. Видимо, автор посчитал, что после смерти я лучшей доли не заслуживаю, и потому плита получилась такой ущербной и вызывающе жалкой.
Когда писалась картина, дата смерти на могильном камне была удалена от момента написания несколькими последующими годами жизни. Моей жизни.
Таким образом, поставив мою жизнь в столь жесткие временные рамки, Алекс недвусмысленно призывал меня готовиться к смерти, причем не просто к смерти, а к смерти в установленный день и год, в соответствии с датой на могильной плите.
Против его ожиданий, мне удалось ловко проскочить эту печальную дату, и уже несколько лет я жил, как бы беря годы у жизни взаймы, значительно превысив отведенные мне скупым Алексом полномочия живучести.