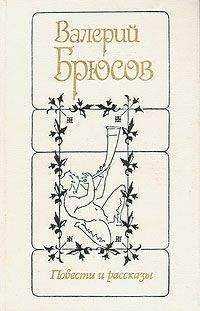Хельмут Крауссер - Сытый мир
Дом делают окна. Это сказал я и гордился тем, что у меня нет дома. А теперь смотрю вокруг — и повсюду окна. Справа и слева. Витрины. Вот чёрт! Они же возвели вокруг меня дом! Только на крыше сэкономили, пожалели! Конец-конец-конец.
Берлин-Тегель. Берлин Вифлеем. В пятидесяти метрах надо мной самолёты трубят вниз, идут на посадку. С каким бы удовольствием я пнул на дорогу детскую коляску, просто так, из солидарности… Но нет, что я говорю! Тогда ведь меня арестуют. Будет ещё в большей степени дом. И зачем мне это?
Ведь всё это меня вообще не касается. Остаётся ещё закуток, который принадлежит мне, и этого для меня достаточно. Юдит. Boy meets girl. Etcetera. Древнейшая история избавления от чар. Что, цивилизованный мир надо мной ухмыляется? И пусть. Он только лжёт. Он хочет завернуть человека в себя, задушить его пуповиной, это мясистая, массивная мама, мегера, леденящая шалава, эта Антарктида могущества. А я — ликующий выкидыш, космический кусок блевотины, четырёхглазый зубной камень, золотая коронка на подгнившей челюсти. И я сыт также иронией, и преуменьшением, и осторожностью, вкусом, и тактом, и оглядкой на обстоятельства, малодушием, и соотнесением, и пониманием. Конец-конец-конец.
Катако! Прав — я! Мой мир красивее, чем ваш, я могу разрешить себе всё, а массе вашего брата я не пожелал бы ничего, кроме сердечного инфаркта, братской могилы и…
— Хаген?
Кто-то тронул меня за плечо.
— Юдит?
— Слушай, Хаген, а что это ты здесь делаешь, вообще?
— Ищу тебя. Всё это время. Где же ты была?
— Серьёзно? Вид у тебя ужасный…
ГЛАВА 22. ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ
Хаген в кафе. В частном доме.
В комнате Юдит.
В счастье
— Ты что, на самом деле искал меня? Всё это время?
— Хммм…
— Ты врёшь! Вечно ты со своими историями…
Мы сидим друг против друга в одном маленьком нарядном кафе с ностальгическим шармом двадцатых годов. Белые, круглые скатерти, изогнутые спинки и подлокотники кресел, точёные стоячие вешалки д ля одежды, а свет приглушён лёгким налётом оранжевого, что в сочетании с благородным зелёным обивки создаёт атмосферу отдалённой буржуазности.
У Юдит с собой джутовая сумка с учебниками. Она изменилась. Волосы у неё промытые, с шёлковым блеском, похожим на ореол. Я прошу её отстегнуть черепаховую пряжку и распустить волосы так, чтобы они раскачивались, как качели, выкрашенные блондинистой краской. Она самая красивая молодая девушка всех возможных миров, и её пальцы наигрывают мелодию con delicatezza рядом с чашкой.
— И почему же ты меня искал?
— И ты спрашиваешь?
— Правда, скажи, почему?
— Потому что ты моя принцесса, а любовь идёт кружным путём. Что ещё тебе сказать?
— И ради этого ты навязал на свою шею столько приключений?
— Да.
— Ну-ну.
Кажется, она тронута этим, но неприятно тронута. Меня это смущает.
Нельзя сказать, чтобы она бросилась в мои объятия. Я бы не взялся это утверждать.
Ложечка постукивает в капуччино, тихо, как далёкий, звонкий колокольчик.
— И что ты хочешь от меня?
— Чтобы ты ушла со мной. Чего же ещё?
— Куда?
— Всё равно куда. Просто ушла со мной. Ведь ты и сама хочешь отсюда убраться, разве нет?
Она скептически вскидывает ресницы.
— Один раз я убежала. Этого достаточно.
— Иногда достаточно. Если не возвращаешься назад.
Она снова застёгивает пряжку в волосах и ставит локти на стол.
— Кое-что изменилось, Хаген.
— Расскажи!
— Пока что мне вполне хорошо. Мои родители оставили меня в покое, никто мне не мешает. По существу, я могу делать всё, что хочу. Кроме того, я думаю, что всюду одинаково…
— Да?
— Да. Я повзрослела. Пойми меня, я была маленькая слабенькая девочка, и мне казалось, что где-то там происходит бог знает что, а я тут сижу и ничего не виясу и не знаю. За это время до меня дошло, что дела у меня, собственно говоря, идут нормально, что мне действительно мало на что можно пожаловаться.
— Понимаю.
Подошла официантка и сказала, что они сейчас сдают смену и поэтому надо рассчитаться. Мы расплачиваемся — каждый за себя.
— Знаешь, Хаген, когда этот вокзальный буль тогда утаскивал меня, я кричала и плакала и потом проплакала весь полёт. Но после — уже дома — набрала полную ванну и два часа в ней пролежала, пока у меня не разбухла кожа. Как же это было хорошо! Запах пены для ванны. Мягкое полотенце…
Вот же злодейка-судьба, неужто я не заслужил ничего лучшего, как выслушивать эти истории про чудодейственное средство «Ленор» и мягкие полотенца? Я протестующе схватил её за руку.
— Скажи, Юдит, как это — быть взрослой? Что это такое?
Она отнимает у меня свою руку и ничего не отвечает.
— Почему ты так холодна? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то сказать и нарушить отчуждённую тишину.
— Извини меня. Но ты меня испугал.
— Я? Тебя? Чем же?
— Тем, что ты, судя по всему, видишь во мне то, что не есть я… Тем, что ты столько сделал… так много проделал… Это меня к чему-то обязывает, это меня нагружает и…
Она сглатывает и трёт кончик своего вздёрнутого носа.
— Я вовсе не хотела бы жить на улице, тем более продолжительное время. Может быть, мы просто не подходим друг другу. Ты вот говоришь, что всё это время думал обо мне, а я, если уж быть честной, почти совсем забыла твоё лицо.
Это сурово. От такого у меня отнимается язык, и я быстро опрокидываю в себя остаток красного вина, в котором больше не плавает свечение, нет того умиротворяющего жара, того анакреонтского света. Кровь, наполовину вытекшая, сумерки. Неужто всё было даром? Нет, всё было дорого.
— Мне очень жаль, я сама себе кажусь ужасной…
— Забудь об этом, ни о чём не думай, ты королева. Идём гулять?
— Ты не сердишься на меня?
— Конечно же сержусь. Там увидим.
На углу улицы перед казино с автоматами идёт игра в напёрстки. Мы останавливаемся и смотрим.
Кладёшь сотенную купюру на ту половинку спичечного коробка, под которой предполагаешь войлочный шарик. Крупье не особенно хороший. Движения его рук несобранные, нервные, нескоординированные, в них есть какая-то старческая слабость.
— Юдит, у тебя не найдётся сотни?
— Да. Есть.
— Дай-ка мне!
— Но не хочешь же ты её проиграть? По телевизору предупреждали, что эти игры — одно мошенничество и обман…
— И всё-таки дай мне сотню!
Она неохотно протягивает мне две пятидесятки.
— Пронто, гхронто! Ставим сотню! Где же шарик? — подбадривает зрителей крупье, постоянно меняя коробочки местами.
Я заключаю внутри себя частное дополнительное пари с силами судьбы. Ставлю душу против Юдит. Я кладу купюры на коробок и тут же прижимаю сверху рукой. Выиграл. Две сотни назад.
— Перерыв! Теперь надо выпить минеральной воды! — выкрикивает крупье из своей серой пятидневной щетины, и мы уходим. Юдит весело смеётся.
— Вот. Напополам.
— А если бы ты проиграл?
— Тогда был бы тебе должен и виноват перед тобой. Но лучше пусть тебе достанется моя невинность.
Она щиплет меня в бок. Это первое её ко мне прикосновение, если не считать пресного поцелуя при встрече.
— Ты мог бы принять ванну, ты такой запущенный, видок у тебя!..
— Ты меня приглашаешь?
— Да, конечно! — Она смотрит под ноги. — Мне очень жаль, что я так себя вела… у меня сегодня был плохой день… Может быть, всё это только из — за неуверенности, потому что я не знаю толком, чего я, собственно говоря, хочу. Мне очень хорошо с тобой. Честное слово!
— Прекрасно, принцесса.
— И неправда, что я забыла твоё лицо. Просто я вдруг начала тебя бояться.
— Бояться? Меня? Чего именно?
— Ты правда работал в супермаркете?
— Хммм…
— И правда совершил налёт на бюро ритуальных услуг?
— Было дело.
Я рассказал ей эти истории наоборот, чтобы выглядело не так неэстетично и звучало не так сверх — драматично. Юдит очень опечалилась, когда узнала, что Том сидит в каталажке.
Вскоре я почувствовал, что она всё отчётливее и отчётливее припоминает те два дня, которые мы провели вместе.
Я обнял её одной рукой и был сейчас очень далёк от капитуляции. В худшем случае я самоубил бы на свободу нас обоих. Как-нибудь. Такие вещи надо доводить до логического завершения.
Тот частный дом рядовой застройки, который я так долго и тщетно искал, находился на западном краю Шёнеберга. Сад огорожен живой изгородью высотой до бёдер и полон безвкусицы. Вычурный пруд с гипсовой Афродитой. Голливудские качели-диван в жёлто-коричневую полоску. У входной двери в дом висит деревянный якорь со встроенным барометром.
Мы прокрадываемся на цыпочках через прихожую, выложенную светло-голубым кафелем. Справа располагается кухня. Юдит тянет меня туда и закрывает за нами дверь. Настенные часы показывают без малого одиннадцать.