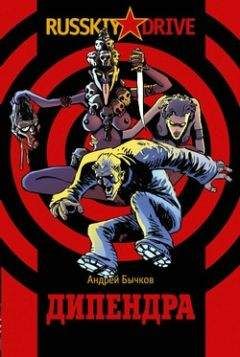Анатолий Найман - Сэр
Италии как-то это было несерьезно, Испания была хуже. Там была междуусобная война, и мы все были на стороне республики.
– Вы им как-то помогали?
– Паковал пакеты, посылал им. Был в каком-то зале, мы запаковывали пищу, то, другое, третье, чтобы послать туда. Этим я занимался. Просто то, что называется, I made parcels. Делал такие пакеты – и пакетики. Я был целиком на стороне тех людей, героев, которые туда уехали и которых убивали, молодые люди – которые отдавали свою жизнь за это.
– У вас есть свое отношение к книжке Орвелла “Homage to Catalonia”?
– Никогда ее не читал. Он же был анархист. Бедный Orwell, он же перестал быть марксистом там.
– А у вас никогда не было соблазна стать марксистом, хоть не надолго?
– Никогда. Это только потому, что я жил в Советском Союзе. (Оба мы с пониманием похихикали.)
– А к самому Орвеллу личное отношение было?
– Нет. Я его не знал.
– Я имею в виду не знакомство…
– О, да, да, да, о, да, я восторгался этими знаменитыми книгами.
Я вам скажу, где я в первый… эта книга – как это она называется? “Animal Farm”…
– “Звероферма”.
– …мне ее подарил Рандольф Черчилль, там, в России, в сорок пятом году. Он привез с собой эту книгу. Она только что вышла, он ее привез, я ее прочел в посольстве, где работал,- и оставил на скамеечке парка, значит, этого московского большого парка. В надежде, что кто-то найдет, что-то с этим сделает.
– Нашел энкавэдэшник, надо полагать.
– Вероятно.
– Но вся история – прелесть.
– Я прочел с восторгом эту вещь, считал, что замечательно. И потом вторую книгу тоже. “1984”-й. Он был абсолютно честный человек. Он был социалист, но абсолютно честный человек, разочаровался и решил сказать правду.
– У вас есть предположения, что он был убит, а не просто попал под машину – или что там с ним случилось?
– Нет-нет-нет, он умер в госпитале от какой-то болезни. От чахотки, в этом роде. За то, что он написал, он не пострадал.
– А не были вы знакомы с совсем другим англичанином, Си Эс.
Льюисом, в некотором смысле антиподом Орвелла? Он тоже стал популярным сейчас в России.
– Клайв Стэйплс? О, да-да-да, конечно, был.
– И какого вы мнения о нем?
– Мое мнение, что он был человек наивный, очень ученый, много знал о средних веках. Он был прерафаэлит. Все, что нравилось прерафаэлитским художникам, нравилось ему. Средние века, до
Ренессанса. Росетти, все эти прерафаэлитские художники.
– В России он сейчас высоко ценится как религиозный писатель.
– Я знаю, этого я не читал. Мне неинтересно. Я был с ним в очень дружеских отношениях. Он начал жизнь как философ, обучался философии. Потом перешел на литературу, интересовался, как я сказал, главным образом до-ренессансовской литературой, восторгался всем средневековым – и всем религиозным, конечно. И у него был тот же пункт, что и у английских прерафаэлитов. Он не любил… как по-русски modern?
– Современный.
– …современный мир. Он хотел туда, туда – когда еще было христианство, когда были средние века. Как Т. С. Элиот хотел, как Арнольд Тойнби хотел. Ему просто не нравился настоящий мир.
И он поэтому погрузился в эти ребусы и в эти метафорические выражения. И в весь этот мир итальянских поэтов. Тут уже и
Ренессанс, Ариосто, Тассо – все эти люди его, конечно, глубоко интересовали. Потому что это была фантазия, а фантазия была – против настоящего мира. Он меня приглашал обедать от времени до времени, мы разговаривали об этом обо всем. Потом в один день он предложил мне вино, как всегда делал,- я вина не пью, но так как он нервничал с этим всегда, он был человек довольно суровый, можно было легко его обозлить, то я выпил немножко. Он сказал:
“Как вам нравится это вино?” Я сказал: “Вы знаете, мне кажется, в нем есть какой-то алжирский привкус”. Я ничего не знал об
Алжире или об алжирском привкусе, я это сказал, выпалил это абсолютно без всякого резона. Это было идиотское выражение, просто так, от напряжения. После этого он меня больше не приглашал. В Кембридже он был очень любезен, но наши трогательные отношения порвались. Он был страшным англичанином и не особенно любил иностранцев. Английским англичанином. Хотя происхождением был из Северной Ирландии, конечно.
– У вас он выходит чем-то совсем другим – по сравнению с канонизированной в России фигурой страдающего христианина, достойной подражания…
– Может быть, может быть – но я этой стороной не интересуюсь.
– …такого христианина-юмориста.
– Нет, нет, наверное, наверное. Но он относился к тому миру, где-то, он относился к какому-то миру фантазии. Его христианство относилось к несуществующему порядку вещей, членом которого он был и о которых он писал свои смешные истории, все эти фантастические истории. Это было там – где ему хотелось жить.
– Вы где-то процитировали Рассела: “Глубочайшие убеждения философов редко входят в их формальные рассуждения”. И что-то про основные принципы и общие взгляды на жизнь, которые должны быть как цитадели, защищаемые от противника.
– Да. Это Рассел сказал.
– Как вы это прокомментируете применительно к себе? Есть у вас как у философа идеи, скажем так, сокровенные?
– Нет, нет, нет, “убеждения” – неправильное слово. Главное,
Рассел говорит, что теория философа является сравнительно простой вещью. Можно понять этот сравнительно незамысловатый образ или рисунок. А все замысловатое – это защищение против мнимых или настоящих атак, таково положение. Внутри есть то, во что они верят. Это есть само имение, а вокруг него стены. Но само имение, сама страна, вокруг которой стены, совсем не такое замысловатое. Замысловатый, умный получается только отпор. Это, так сказать, воздух оппозиции к этому. Это совсем другая вещь.
Мне показалось, вы спрашиваете о том, как философия относится к характеру философа.
– И как?
– Философия исходит из характера. Это же Уильям Джеймс тоже сказал – или кто? – кто-то сказал: если вы хотите понять философию, прежде всего узнайте, кто философ. Что за человек, каковы его взгляды, каков его темперамент. Конечно, так. Я уверен, что моя философия и философия всех философов глубоко относятся к характеру, к человеческому характеру философа, это не отдельная вещь. Математика не относится, философия – да.
– Кто сказал об отличии профессиональной философии от уличной?
Что-то вроде, что есть слова о вещах и есть слова о словах.
– А, да, да. Уже не помню, кто это сказал, но это правда. Скорее
Эйнштейн бы это сказал, какой-нибудь такой человек.
– А были в философии двадцатого века фигуры ранга Канта – по влиянию на век?
– Это хороший вопрос. Ранга Канта – очень трудно сказать. У меня был друг в Америке, который делил философов на императоров, царей, продюсеров и, м-м, блестящих молодых людей. Кант был один из отцов философии. Как Платон. Да. Он в этой маленькой категории – Платон, Аристотель, Кант. По-моему. Он больше философ, чем Декарт.
– Ответ исчерпывающий.
– Платон, Аристотель. Кант. Кто еще? Некоторые люди сказали бы
Витгенштайн, может быть.
– Интересны ли вам исторические предсказания? Кто-то предсказывает, что будет то-то и то-то, и потом это оправдывается – и, по моим наблюдениям, не производит ни на кого никакого впечатления. Так для кого это? Современники о будущем не думают так, как о сегодня.
– Это правда.
– Для потомков? Тем более.
– Видите, это исторически интересно.
– Что вот такой-то угадал, да?
– Такой-то угадал. Я написал об этом ведь целую вещь. О том, что, например, в девятнадцатом столетии никто не предсказывал, что национализм станет или расизм станет таким могучим движением нашего времени, никто. А ведь должны были, там было достаточно пророков. Но об этом не говорили.
– В России сейчас господствует убеждение, что всё абсолютно, что говорят,- не так, как говорят. Если я вам говорю: сейчас в
России апрель – это значит, я вру, потому что сейчас все, что угодно, только не апрель. По радио, по телевидению, в газетах – все не так.
– Все врут, все врут.
– Все врут – и, представьте себе, это правда: действительно врут! Дайте мне то-то и то-то, премию и квартиру, я при смерти, иначе я умру. Дают. Не умирает. Гуляет с дамами, пьет водку.
Вокруг говорят: ну? что мы говорили! все вранье! дали за взятку, по блату, потому что масон. То есть в принципе они правы, но вранье растет.
– Растет.
– Торжественный вопрос: до какой степени надо этому противостоять, чтобы скепсис не стал абсолютным?
– Он никогда не станет абсолютным. Нет. Скепсис не может продолжаться. Люди всегда верят. В конце концов они верят, что мир искренен. У них есть довольно сильные, иногда это абсолютно ложные, убеждения – но есть. Скепсис – это только к интеллигентам относится. Я верю в скепсис, потому что это единственное, что поддерживает в конце концов правду. Но – мир не может быть управляем скеп…- скептические интеллигенты не правят миром.