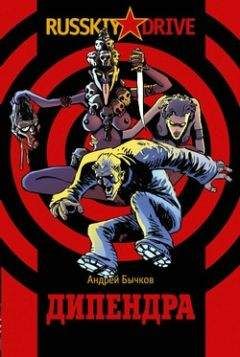Анатолий Найман - Сэр
Who am I speaking to? Yes… Oh, yes, of course. My wife would like to come to lunch tomorrow… Oh, yes, where are you now?
And when… We’re going abroad on Wednesday, indeed… And we’re in Oxford till then. Well, she’s out at the moment, you could ring her in the evening. She’ll be here She’d be delighted, and so would I. Delighted to see you… For Sunday, Monday and
Tuesday… (Заурядный разговор о назначенной встрече.)
Слева – это Герцен. Это Михайлов, который поэт, переводчик, каторжанин; писал, между прочим, о Милле. Это Белинский. Это
Шостакович. Ему головку пририсовали и ручки. Это Austin, Остин, вот этот человек, знаменитый философ. Наверху не важно, кто все эти люди в мундирах. Потом кто еще?
– А это что за рисунок? А, “Quo vadis”! Петр и Павел, да?
– Да, вероятно. Кто это сделал? Кто-то сделал для меня почему-то… Это Vico, мой герой. Это Михайловский, да.
– А кто тут выглядывает?
– Это не мои герои. Здесь герои и антигерои. Кто тут выглядывает? Это лорд Weidenfeld, Виденфельд, очень негеройская личность.
– А это товарищ Сталин.
– Это товарищ Сталин.
– С музой почему-то.
– С какой-то музой, да.
– Прелесть.
– Это Joyce.
– Это Джойс – с кем?
– С кем-то. Это Джойс, это… Jonathan Sullivan, тенор, которого я очень уважал, ирландский тенор, пел в опере.
– А это Исайя с кем?
– Это – как его зовут – Всеволод Иванов. Это он и есть.
– Что за индус?
– Не Неру, Неру не был так стар. Это Криш‹твин› (не расслышал), он был профессор восточной философии тут. Это – опять Hertzen.
Это – Бабеф.
– А как Максвелл к вам попал?
– Потому что такой мошенник!
– А с кем это он? Страшненькая фотография…
– Это да.
– …как театр какой-то.
– С одним знакомым моим банкиром, забыл его имя. Как его зовут?
Gratzam? Gretzam? Немецкое имя… Ну, что еще?
– Кто вот это? Плеха?..
– Нет-нет, это Каэтано, итальянец, это профессор, это друг мой большой. Первый антифашист, первого часа антифашист. Я вам скажу историю о нем. Когда он был на смертном одре, я пошел его увидеть в Италии, в каком-то доме какой-то графини. Я ему сказал: как вы поживаете? Он говорит: “Кроче умер. Муссолини умер, и Кроче умер.- Почему я не чувствую себя лучше?” Я спросил: вот будут выборы, вы будете голосовать? – “Я сказал коммунистам: “Если вы повесите папу, буду голосовать за вас.
Если нет, то нет”. (Мы оба посмеялись.) Он был католик… Это опять Шостакович, в своей мантии.
– Оксфордской. А это?
– Не так легко… (Ищет подпись и читает.) Ruskin и Henry
Acland, был такой доктор.
– Это Ахматова. Это мы над ее гробом.
– Это Кант.
– Про кого еще спросить? Чернышевский, ужасный.
– Ужасный? Это должно быть.
– Это?
– Индусы какие-то.
– А вот Никсон за роялем почему-то.
– Индусы и белые, не знаю, кто они, наверное, конференция какая-то. Абсолютно забыл.
– President Nixon at the piano.
– President Nixon at the piano. А это Стивен Спендер. Это… художник – как его зовут? – который сделал с меня портрет – знаменитый английский художник, очень известный. Живет в
Калифорнии. Очень гомосексуальный. Постойте. Имя его… Ах ты, у меня все забывается. Молодой художник – все еще довольно молодой.
– А эти два человека?
– Это американский посол Брюс и около него такой довольно ужасный господин лорд Цукерман. Был лорд – Zuckerman.
– Все бывает.
– А вот это Чемберлен, это Галифакс. Это Лаваль, да, этот. А там кто-то из хорошей компании. Феликс Франкфуртер, американский судья, которого я знал. А это кто?
– Кто-то русский…
– Н-наверно. (Оба смотрим подпись.)
– Э-э, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
– Да-да, конечно. А этого я не знаю.
– Хорошо, не надо наклоняться.
– Кто-то лежит, я не знаю… руками кого-то зацепляет.
– Исайя, хорошо, спасибо большое.
– Это не друг. (Мы смеемся.)
– Спасибо.
Этот человек, Исайя Берлин, был, как сам он сказал при нашем знакомстве, “ни то, ни другое”. Не философ и не филолог. Не историк. Не литературовед. Не исследователь, не политолог, не этик. Не поэт. Словом, типичный “не-математик”. Очень остроумный, но не Бернард Шоу. Умный, но и я, и он встречали людей умнее. Добрый, но меньше, чем, положим, мать Тереза. Много знающий, но не академически. И так далее.
Всегда хочется объяснить человека одним словом, и всегда тратишь сто или сто тысяч, и всегда суть остается недосказанной. Однако, если бы было поставлено условие: или одно, или ничего,- я бы назвал героя этой книги нормальным. Он был эталоном человеческой нормы – не в том нынешнем значении этого слова, которое подменяет собой понятие “о’кей”, “в порядке”, а в значении оси, от которой и вокруг которой человечество ведет, чаще бессознательно, отсчет ума, добра, таланта, экстравагантности, исключительности, банальности, пошлости, низости, тупости. Нормы как стержня, который все эти человеческие проявления подпирает.
Нормы отнюдь не как усредненности, отнюдь не как ограниченности, а, напротив, предлагающей себя во всей полноте и яркости своего содержания. Но – нормы: той амплитуды, которую выбрал маятник земной жизни, чтобы не укорачивать размах и не замедлять хода и в то же время не раскачаться до разноса всего механизма.
Его сверстница и хорошая знакомая Мириам Ротшильд, известный энтомолог, однажды убеждала меня – в своей легкой независимой иронической манере,- что цивилизация муравьев настолько же мудрее, насколько древнее человеческой – то есть жизненной. Что когда люди исчезнут с лица Земли, муравьи будут жить на ней, как жили до появления человека. Возможно. Кое-какое подтверждение этому я получил на днях, обнаружив, что крохотные бледно-коричневые городские муравьи завелись у меня в компьютере. Возможно, муравьи сменят племя людей. Однако не заменят же. Как и компьютеры.
Всю жизнь этот человек был обернут к прошлому. Никогда не прогнозировал будущего. Жил только мгновением настоящего – правда, никогда его модой. И сейчас обнаруживается, что при всем при этом он не запер себя в “свое время”. Не то природой, не то чутьем он опередил его по самой манере участия в жизни и в культуре. Его постижение действительности и его отдача ей были принципиально несистемными и только постольку целостными, поскольку им были освоены фрагменты целого. В некотором смысле, как сказали бы теперь, клиповыми. Иначе говоря, современными.
Присматриваясь к людям, а не к насекомым и в руки беря перо, а не компьютер, он тем не менее переехал из своего века в следующий – “современным”, открытым любой новизне и знающим ей цену. Забавным. Абсолютно подлинным. Живым человеком.