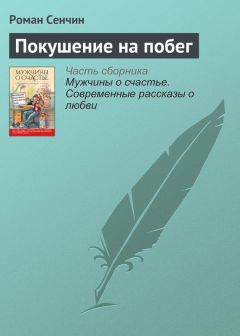Маргарет Дрэббл - Мой золотой Иерусалим
— Понятия не имею. Я ей сказала, что мастера надо вызывать регулярно. А то она, видите ли, вызывает мастера, только когда что-нибудь сломается.
Последнее было сказано с глубочайшим злорадством, злорадством благоразумной старой девы. Кларе не удавалось побороть ощущение, что вызывать мастера именно тогда, когда что-то сломалось, вовсе не такая дикость, как думает мать, но судить об этом с уверенностью она не могла, поскольку, как думают и живут другие, просто не знала. Окрестные жители, похоже, мать уважали, признавая за ней права, которыми она сама себя наделила; Клару это и изумляло, и угнетало: ведь никто не поступал так, как миссис Моэм, и тем не менее на всех действовала внушительность ее принципов. Воспринимая близкие отношения с людьми как оскорбление, мать не имела друзей, но имела авторитет, и безжалостно подавляла всех неопределившихся и незадумывающихся. Клара никак не понимала, почему никто из них не отвечает презрением на презрение, почему те, скажем, кто посещает церковь, кто читает романы, кто заполняет карточки футбольного прогноза и кто любит ездить на мотоцикле, не наберутся мужества сообща отстоять свои вкусы перед лицом тотального осуждения миссис Моэм. Но никто этого не делал. Вместо того чтобы предпринять встречное нападение, они, похоже, извинялись за свои недостойные слабости. Раз Клара даже слышала, как одна постоянная прихожанка, застигнутая в момент передачи викарию небольшой суммы для бедных, оправдывалась перед миссис Моэм, что вообще-то не собиралась этого делать и никогда бы не сделала, не брось на днях ее младший сын воскресную школу. В плотно окружающем миссис Моэм сознании собственной непогрешимости было что-то такое, отчего люди, приближаясь к ней, чувствовали себя немного виноватыми, хотя в половине случаев не знали, в чем именно. Она порицала столь многое и столь открыто, а одобряла вещи столь неожиданные и в такой тайне от остальных, что под ее всевидящим взглядом каждый безропотно причислял себя к козлищам. Случалось, нахальная продавщица где-нибудь в центре — им там все как с гуся вода — находила что ответить, но Клара в этих случаях испытывала такое напряжение, смешанное со стыдом, что и думать не могла о ликовании. Местные продавщицы старались миссис Моэм не гневить. Они ее боялись.
Боялась и Клара. Она твердо намеревалась воспользоваться тем, что миссис Ханни так кстати попалась матери под руку, чтобы, улучив благоприятный момент, заговорить о своих делах; но, когда такой момент настал, у нее ничего не получилось. Клара стояла, уставившись на скатерть в желтых цветочках, соображая, как бы получше сказать, и молчала. Она сама не понимала, откуда такой страх — ведь она не уважала мать, она ее презирала; с чего ей робеть перед человеком, чью натуру во всей ее презренной мелочности она видела насквозь? Она ненавидела мать за ее ненависть к миссис Ханни, эта ненависть заставляла ее содрогаться от ужаса. Даже вид накрытого стола был Кларе отвратителен — о скольких он свидетельствовал несуразностях, о скольких раз и навсегда заведенных правилах! Каждый, буквально каждый предмет появился здесь в пику чему-нибудь или кому-нибудь и теперь лежал с тошнотворным видом гордого превосходства. А какое все было уродливое! Клара бы простила вещам их уродство, если бы этим уродством так не гордились. Скатерть была льняная: миссис Моэм считала, что полиэтиленовыми скатертями пользовались разве что в рабочих семьях, и часто на эту тему распространялась; но салфетки под каждым прибором красовались полиэтиленовые. Необходимости в них не было, супа сейчас не предполагалось, но это ничего не меняло, салфетки лежали. Все остальное на столе было под стать скорее полиэтиленовым салфеткам, нежели льняной скатерти, ибо на деле миссис Моэм была ярым приверженцем пластмассового и синтетического, ставя практичность превыше всего. Весь дом был забит так называемыми практичными вещами: пепельницами с пружинкой (в доме, где хозяева не курили, а гостей никогда не было), какими-то хитроумными лейками, мухобойками, распрыскивателями ароматизаторов, футлярами для рулонов туалетной бумаги, картофелерезками и механическими сахарницами. В универмагах миссис Моэм была активнейшей покупательницей, падкой на самые нелепые приспособления. Вздумай кто-нибудь упрекнуть ее в мотовстве, она дала бы негодующий отпор такому глупцу и фантазеру; между тем страсть к приобретению «полезных вещей» бесславно поглотила немало фунтов стерлингов. Точно так же она всю жизнь утверждала, что терпеть не может всякие побрякушки, подразумевая, судя по интонации, те милые безделицы, которые во множестве украшали когда-то гостиные викторианской Англии; однако именно побрякушки задавали тон во всех ее комнатах. Правда, миссис Моэм их таковыми не воспринимала, и к чести ее следует сказать, что ни одна из этих вещей не была куплена — и не служила — в качестве украшения. Клара подсчитала, что как минимум треть предметов, неизменно выставляемых на стол, ни разу в жизни во время еды не использовалась, но радовать глаз тоже никак не была предназначена. Особую неприязнь она испытывала к лохани, расписанной пунцовыми тюльпанами. Никакие остатки чая никто туда никогда не сливал — миссис Моэм отлично знала, что это давно не принято. Тем не менее лохань каждый раз появлялась на столе. Она выпирала, она выносила мучительный приговор всей этой жизни. Клара не знала, как и на каком этапе развития человеческого общества появились такие лохани, которым и названия-то не придумали, — вещь эта мучила ее, словно скрываемый в семье позор. Ни в одном другом доме Клара таких лоханей не встречала и ненавидела в ней извращение, возведенное в символ исконной добропорядочности.
Как часто бывало, она слишком долго не решалась объявить свою новость, и когда наконец набралась мужества и открыла рот, то сделала это в самый неудачный момент. Она молчала, пока все ели и слушали мать, пересказывающую остальным злоключения миссис Ханни; Алан, Артур и отец выслушали ее тоже в молчании — чего слова тратить. Стали разливать чай, возникла пауза, и тогда Клара, насупившись, произнесла:
— Я сегодня была у директрисы. Насчет следующего года. Я французским буду дальше заниматься.
Мать в последний раз наполнила свою чашку, как следует помешала, взяла кусок хлеба с маслом, откусила, прожевала и наконец вымолвила:
— Твое дело.
Глава 3
Задолго до окончания школы Клара обнаружила, что, как бы ею ни пренебрегали, как бы ни игнорировали ее дома, всегда найдутся люди — и не только мисс Хейнз и миссис Хилл, — в чьей груди она способна пробудить дух соперничества. Упоминание о груди здесь вполне уместно: Клара рано оформилась, чем ошеломила своих сверстниц, которые были убеждены, что слишком умные никогда не становятся слишком женственными. Сама она воспринимала такое преображение с нескрываемым удовольствием, зная, как много оно сулит. К пятнадцати годам ее престиж неимоверно возрос благодаря записочкам, которые она постоянно получала из соседней, такой же школы для мальчиков. Раньше Клара не считалась у одноклассниц ни сколько-нибудь симпатичной, ни способной задавать тон в школьной моде — вот уж кто понятия не имел, как заломить берет или поддернуть юбку; но их отношение быстро переменилось, и Клара оказалась в числе принадлежащих к избранной компании самых шустрых, самых заметных, самых модных. Такая перемена не могла не порадовать, и Клара сделала надлежащий вывод: обладание большой грудью, как и способность получать хорошие оценки на экзаменах, дает силу.
Но она все-таки не принимала произошедший взлет как должное и не чувствовала себя в новой компании до конца своей — слишком долго она восхищалась этими девочками со стороны. Большинство из них оказались вместе с самого начала, рожденные командовать и побеждать. Одной из этих избранных была Рози Лейн, дочка владельца большого бакалейного магазина, спортивная девочка с хорошеньким личиком; изначальная популярность досталась ей дешево — ценой кураги и кубиков мармелада, которые она раздавала достойным и которые те запихивали в рот целиком. Затем была своенравная Сьюзан Беркли, любительница покомандовать; от природы энергичная, она в соответствии со своей природой и развивалась. Потом были неразлучные подруги Хетер и Кейти, преданно одна другую лелеющие; им было неведомо, каково хоть на минуту оказаться всеми позорно брошенной, им не приходилось искать пару ни на уроках танцев, ни в спортзале или в одиночестве брести из класса в класс; их непобедимая уверенность друг в друге покоряла любого. В тот год описанная четверка составляла ядро ослепленной собственным блеском элиты, но были и другие. В четырнадцать лет к ним присоединилась Изабел Маршалл, из худого нескладного подростка неожиданно превратившаяся в изумительную красавицу, а еще через год — ее лучшая подруга Клара, когда у нее появилась грудь. Был еще один, труднообъяснимый случай — Джэнис Янг. Некрасивая, неумная, неспортивная, заведомо обреченная всю жизнь служить козлом отпущения, Джэнис, когда ей пошел пятнадцатый год, умудрилась втереться в избранное общество. Избранное общество так толком и не разобралось, как это произошло, и в конце концов пришло к выводу, что Джэнис взяла чистым нахальством. Она была неуправляемая, бесстыжая, наглющая; она сама приставала к мальчикам, и те, ко всеобщему изумлению, безропотно подчинялись, повсюду с ней бывали и дарили подарки. Она говорила о них такое, что у всех глаза на лоб лезли, но молодые люди сносили эту неслыханную, фантастическую непосредственность. Она ставила им условия, она их запугивала, и когда-нибудь одному из них суждено было также безропотно на ней жениться. Никто ничего не мог поделать. Не смогли ничего поделать и Рози, Сьюзан, Хетер, Кейти, Клара, Изабел; они приняли ее — по слабости, не устояв перед таким первобытным напором. Время от времени у них возникало смутное желание заставить ее предъявить свое несуществующее право на членство, но каждый раз, точнехонько перед готовящейся атакой, у Джэнис, словно в кармане у фокусника, обнаруживался новенький, с иголочки, поклонник, радостно спешащий в ее непостижимые сети.