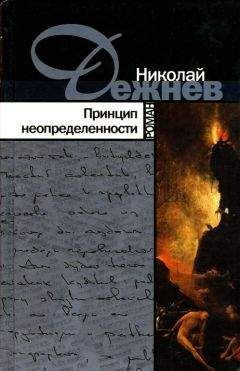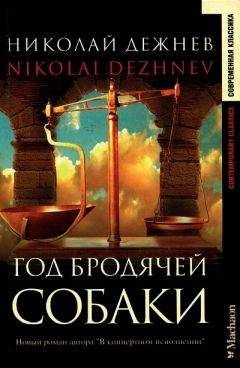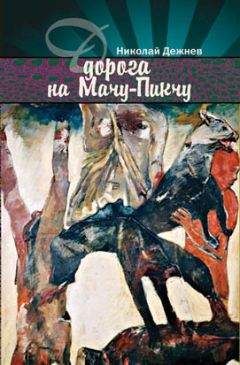Канатоходец. Записки городского сумасшедшего - Дежнев Николай Борисович
Брюзглив стал, думал я, глядя на меняющийся за окном пейзаж, верный признак надвигающейся старости. Остановил машину у первой же аптеки и вышел купить валидол. Хотелось в точности такой же, как у родителей, в круглом алюминиевом контейнере, но продавали его бумажными упаковками, словно банальный аспирин.
— Может быть, посоветовать вам что-то другое? — спросила девушка в белом халатике, скорее всего практикантка. — Скажите, что вы чувствуете?..
Вопрос поставил меня в тупик, женщины последнее время моим внутренним миром не слишком интересовались. И правда, что же такое я чувствую?.. Что споткнулся, чувствую, и переставляю ноги, чтобы не упасть, и чем больше бегу, тем больше падаю. И так последние двадцать лет. Но милым девушкам о таких вещах не говорят. Стоит только начать жаловаться, и будешь приставать к прохожим на улице и рассказывать им в подробностях своей анамнез вперемежку с подробностями биографии. Но холодок под языком подействовал, боль немного отпустила.
В почтовом ящике, давно в него не заглядывал, обнаружились несколько счетов и длинный конверт с моим адресом и выведенными готическим шрифтом латинскими буквами: I. — J. Е, сунул его в карман плаща. В лифте поднимался с надеждой, что портрета в кладовке не обнаружу. Это решило бы все проблемы, превратив последние несколько дней в плод моей разыгравшейся фантазии. Не было ни Морта, ни Нергаля, ни Клары, а только один большой мираж. Я видел их в своем сладком сне, как случалось и раньше, когда сюжет романа начинал обрастать характерами.
Вот все и объяснилось, думал я, выходя из лифта. На подсознательном уровне, втайне от себя я прицениваюсь к новой вещи. И название придумал: «Канатоходец», и приступил бы уже к работе, если бы не дурацкий звонок Потапенко и эта история с многоликим дознавателем.
Открыл ключом дверь и прокрался к чулану… картон стоял, лицом к стене, накрытый махровым полотенцем!
«Это ничего не значит! — сказал я себе, возможно, вслух. — Ничего не меняет!»
Это меняло все, совсем все. Вообще говоря, существование в природе Клары не делало реальными встречи с месье и черным кардиналом, но интуиция, а ее не обманешь, подсказывала, что я их не выдумал. Надо было успокоиться и попытаться найти в этом мире хоть какую-то опору. Отнес картину в гостиную и поставил ее, как в день обретения, на стул. Снял полотенце, отошел на несколько шагов и только тогда обернулся. Встретился с собой глазами. Хмурыми, напряженными. Опустился в стоявшее на том же месте кресло.
Ну и что ты мне теперь скажешь? О чем предупредишь?
Портрет молчал, смотрел на меня со знакомой кривенькой ухмылочкой, от которой мне стало не по себе. Таким меня видят люди, а вовсе не улыбающимся с книжной обложки. Но ведь тот, глянцевый, не смог бы написать то, что удалось мне! Лицо на картоне дрожало и двоилось, будто силилось, но никак не могло улыбнуться.
Полез в поисках сигарет в карман плаща и наткнулся на конверт. Хорошие новости сообщают лично, в крайнем случае по телефону. Разорвал с дурным предчувствием плотную бумагу. Прочел:
«Уважаемый Николай Александрович! Уверены, это обращение не станет для Вас неожиданным…»
Дочитал до конца. Поднял взгляд на портрет, он саркастически ухмылялся. Руки тряслись, как после отбойного молотка.
Прошептал беззвучно:
— Нет!
Заорал так, что картинка перед глазами пошла кругами:
— Нет! Нет! Нет!..
Черты лица портрета смялись, с разинутым ртом он напомнил мне «Крик» Мунка, картину, несущую людям безумие. Ничего гадостнее в живописи я не знал. Были бы деньги, скупил бы все копии и замазал гаденышу дегтем его поганую пасть. Издевательски усмехаясь, на меня смотрел дьявол. По-приятельски подмигнул:
— А ты думал, с тобой в игрушки играют!
Мир раскололся. Прошедшая через Вселенную трещина отрезала меня от того, что было моей прежней жизнью. Морда продолжала щериться:
— Ты же прекрасно знал, что все так и будет!
Мысль пришла единственная, страшная: пропал! совсем пропал! Сидел, не двигаясь. Тело налилось свинцом, руки стали неподъемными. Не было ни грусти, ни сожалений. Что остается человеку от прожитого? Несколько не связанных между собой мгновений, послевкусие прошедшей жизни. Как ни складывай, цельная картина не получится. Их не выбирают, они живут в тебе сами по себе, приходят застывшими фигурами, выхваченные стробоскопом памяти из небытия.
Вспышка белого света.
Кладбище. Над верхушками голых деревьев синеет пронзительно-яркое мартовское небо. В пронизанном солнечными лучами воздухе кружатся редкие снежинки. Стоим вдвоем у холмика свежей могилы. Прислоненной к кресту, фотография улыбающейся матери. Отец говорит, что всегда не любил фильмы с ушедшими из жизни актерами. Оказалось, они учат смирению. А еще тому, что ничто не проходит бесследно. Помолчав, добавляет: в этом надежда. Просит: надень шапку и иди, я еще немного постою. Я не ухожу, стараюсь не смотреть, как он беззвучно плачет.
Вспышка белого света.
Пустое кафе. Дашка уплетает за обе щеки пирожное. Говорит:
— Ничего у нас с тобой, Гречихин, не получится!
Улыбаюсь:
— Я и не рассчитывал!
— Как, — удивляется она, — почему?
Мне бы, идиоту, промолчать, но кто-то буквально тянет за язык. Интересно посмотреть, как дернется лапка лягушки, когда к ней прикоснутся электричеством.
— Думал, прочтешь пьесу, подскажешь, как сделать текст напряженным, появятся же у тебя эмоции! А ты, дуреха, талдычишь про запятые. — На голубом глазу поясняю: — Когда много пишешь, чувства замыливаются. Зато теперь я знаю, что творческий вымысел первичен, жизнь тащится за ним, как собачонка на веревочке…
Знакомая по институту смотрит на меня, ничего не понимая. С негодованием морщится:
— И для этого ты постарался меня в себя влюбить? — Не может поверить. — А если бы я действительно в тебя втрескалась?..
Что я могу ответить? Пожимаю плечами:
— Сама знаешь, искусство требует…
Не договариваю, ей этого и не надо.
— Тебе никто не говорил, что ты подлец?.. — Встает из-за столика. — А еще дурак, ничего не смыслишь в женщинах! Зачем сказал?
И, поразмыслив, дает мне увесистую пощечину.
Вспышка белого света.
Курилка в подвале Ленинки. От дыма першит в горле, щиплет глаза. Старик просит угостить сигареткой. Руки в пятнах, пальцы желтые от табака. Живой скелет, кожа да кости. Костюмчик выутюжен, сидит, как на вешалке. Из застегнутого воротничка рубашки без галстука былинкой морщинистая шея. Рот шамкает, трудно разобрать слова.
— Иконы мироточат… в храм Гроба Господня на Пасху нисходит огонь… Пушкин — других доказательств не нужно! — Касается моего рукава легкой, как пух, рукой. — Болдинская осень, разве не явленное Богом чудо! Кроме творчества, ничего в этой жизни нет. — Беззубо улыбается. — Знаете, почему старики говорят друг другу «ты»? Не из панибратства, из сострадания. А табачок у вас хорош, благодарствую!
Свет весеннего дня за распахнутым в Москву окном начал угасать, в комнате воцарился полумрак. С прислоненного к спинке стула картона на меня с сочувствием смотрел святой. Лик его, сложившийся из цветных, с острыми гранями пятен, был печален и строг. Такая светлая, несущая благую весть религия, а православные подвижники на иконах никогда не улыбаются, смотрят на мир только что не со скорбью. Может, прозревают судьбу страны? Будда радостен и доволен жизнью, что же мы-то с собой так, будто сами себе враги? В храмах пахнет ладаном, мерцают золотом оклады, горят свечи…
Свечи?.. Как же мог я забыть! Обещал ведь, если выберусь живым из замка, поставить самую толстую и дорогую. Можно юродствовать, можно всю жизнь изгаляться, а идти-то, кроме как в церковь, русскому человеку некуда! В нее да в кабак. Портрет убирать не стал, сунул под язык таблетку валидола. Боль превратилась в ноющую, с такой можно жить.
К ночи похолодало, из-за этого, скорее всего, меня и знобило. Вышел из метро на Пресне, напротив зоопарка. Родные все места, здесь жили поколения моих предков. Городская суета затихала, на Заморенова зажигали фонари. Шел бездумно, ноги сами несли в храм Иоанна Предтечи, где когда-то меня крестили. Человек не воцерковленный, я приходил сюда, постоять под старыми, расписанными еще Васнецовым сводами, замедлить свалившийся в галоп бег времени. Слушал, не вдаваясь в смысл слов, певчих на клиросе, а то и проповедь священника, и чувствовал, что принадлежу этому месту по праву, что вернулся домой.