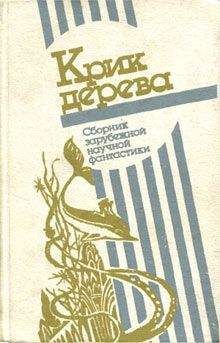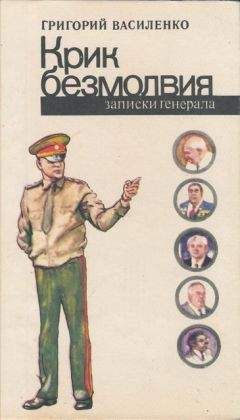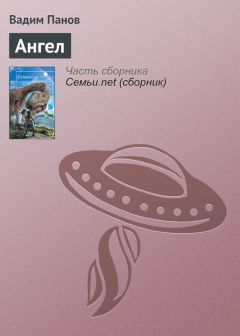Григорий Ряжский - Дом образцового содержания
А в конце лета вышло, чего никто не ждал, когда надо уже было Фирсановку закрывать и обратно съезжать в городскую жизнь.
Сара пришла к Розе Марковне и спросила напрямую, без подготовки:
– Роза Марковна, а можно я у вас служить стану и жить, как мама жила? Пока Вильку хотя б до школы не доведем.
И посмотрела так, что Мирская поняла – не захочет и сама она остаться теперь без девочки этой, привыкла, полюбила и расставаться – неправильно. Вместе пошли говорить с Зиной, так что в обратном порядке получилось: не от нее к Розе Марковне, а наоборот – от Мирской к матери Сары. Зина послушала, медленно набрала полную грудь воздуха, так же медленно, но уже обреченно выдохнула и согласилась. Подумала, видать, судьба нам всем такая, Чепик по женской линии, здесь оставаться. А на словах ответила:
– Ладно, поживи, дочка, люди они хорошие, незлые, сама видишь. Потрудишься сколько надо, а там, может, и подвернется чего: не как со мной – лучше, честней, по-людски. Дом большой, народу много, если чего – не обидят. А обидят – назад домой ехай, хоть у нас и не так красиво жить, как у них, зато проще все, привычней.
Разместилась Сара там же все, при кухне. Другие варианты не стала просто рассматривать, как Роза Марковна ни настаивала: точней места для нее, как сама чувствовала, в доме не было. Дальше все потекло по-заведенному: один вольный день на неделе, стол, приличное содержание от хозяев, уборка, готовка, прогулки с маленьким Мирским, стирка, глажка и снова по означенному кругу: влажная протирка, сушка, крахмаление и – на воздух. А вечером книги, множество хозяйских книжек под путеводством Розы Марковны и иногда Бориса Семеныча.
Зина приезжала под лето, в течение двух последующих лет, и мучительной своей хромоты маскировать уже не пыталась. Недомогание ее за это время перебралось и на другую ногу, в правый коленный сустав и стопу, вследствие развившегося с непреодолимой силой артрита. Кусая губы, она виновато прятала от Розы Марковны глаза, когда, стреноженная приступом, вынуждена была дожидаться очередного отката боли, не умея помочь себе и не делая попытки чего-либо предпринять. Мирская носилась вокруг летней гостьи встревоженной куропаткой, желая придумать всякое, чтобы снять ей боль. Но кроме сухого тепла, мало чего могла предложить, поскольку все прочее Зина отвергала, ссылаясь на непослушание своего подагрического артрита.
Таня, приезжая на выходные и видя такое рвение свекрови по отношению к чужой тетке с Житомирщины, матери их прислуги, удивленно поджимала губу, но не влезала внутрь отношений, понимая, что не все в этом нерусском доме пишется сходно тому, как слышится.
Умом, скорей всего, такой собственной настырности и усердия в своем сопротивлении болезни Зина не понимала, словно нарочно желала усилить страдания вопреки всякому здравому смыслу. Однако внутренность подсказывала ей, что такое ее насилие над собой не случайно.
Следующее лето стало последним из тех, что Зинаида Чепик провела с дочерью в Фирсановке, на даче Мирских. И снова были приступы, и снова она отгоняла от самой себя помощь, желая боли и вреда. Тогда же наконец дошло до нее, чего хотела она и от Розы Марковны, и от самой себя, мучая обеих. Хотелось, чтоб вдова Семена Львовича увидала ее страдания, ее нескончаемую муку за то, что сделала она с ним когда-то, отдав на заклание Лютому, отправив в дальние страшные лагеря, убив его ум, талант и славу, разрушив построенный им этот благородный и культурный Дом, лишив всех их всего: мужа – жены и сына, а последних – мужа и отца.
Вернувшись в Житомир, обнаружила, что артрит медленно идет на спад, но твердо решила в Москву больше не ехать, хватит людям жить мешать, когда и сил особенно уже лишних нет ни у кого, да и совесть самою поедом червь сосет изнутри до самого невозможного края.
В семье Мирских Сара Петровна Чепик прожила почти столько, сколько годы назад понадобилось ее матери для того, чтобы прибиться к дому в Трехпрудном, жить там, служа семье Семена Львовича, быть обманутой им, самой его предать и сбежать после всего в прошлое, унеся с собой остаток настоящего, – пятнадцать лет. Трудно или же неуютно у Мирских ей не было никогда. Если не брать в расчет никакое, в общем, но и не вредное отношение к ней Бориной Татьяны, а также прохладную и нечастую вежливость Глеба Иваныча Чапайкина, единственно таковую по сравнению со всеми прочими приятными соседями по дому и двору, то в целом с людьми здесь Саре, можно сказать, сильно повезло. Права была мать: никто не был злой или с причудой. Да и, правда сказать, сама трудилась честно, вырабатывая себя без обмана, желая сделать всему семейству угодливей и лучше. Жалованье брала, каждый раз стесняясь, опуская глаза в пол и быстрым движением, не глядя в сами деньги, совала их назад, за резинку на юбке или под завязку фартука.
С самого первого дня она назначила себе Вильку в любимые младшие братья – утирала ему нос, высаживала на горшок или трепетно держала за руку на прогулке. Таню внимательно выслушивала, после чего быстро и точно исполняла все просьбы. Розу Марковну держала за первую учительницу, старшую маму и иногда за добрую фею – просто с чуть-чуть нехарактерной для сказочного персонажа внешностью. Едва заметной разницы между ироничной Мирской-Раневской и трагической Мирской-Ахматовой Сара, естественно, уловить не могла, зато в те редкие минуты разности потенциалов, что возникали у хозяйки, она умела безошибочно улавливать те короткие, но пронзительные волны теплой мудрости, умной строгости, насмешливой недоверчивости и доброго сочувствия, что исходили от вдовы академика, бухгалтера в прошлом, ныне – пенсионерки по возрасту и частной портнихи, специализирующейся на бюстгальтерах и грациях с хитрой косточкой.
Отдельная линия получалась с Борисом Семенычем, удивительная для нее самой и малообъяснимая. С того же самого первого в этом доме дня не могла понять: какой такой странностью тянет ее в сторону хозяйского сына – тянет и не пускает обратно. Уважать – уважала сильно, но это же было совсем другим, это шло изнутри ребер, отпочковавшись в устойчивую независимость от разума и никак не поддаваясь уговору на угомон. Другими словами, с ощущением просто приятности от уважения и только странное это чувство не совпадало, для того же, чтобы перевести его в иное, запретное и невозможное, не хватало встречной смелости и воображения. Даже задумываться серьезно не решалась никогда, просто отгоняла наваждение такое прочь и пыталась смеяться над собой. Отгонять – чаще получалось, а вот посмеяться – никогда. Это была граница: достигнутая, но не пересеченная. Это был край, схороненный ото всех вокруг – таинственный остров капитана Немо, прописанный в жюльверновской книжке из кабинета Мирских на втором квартирном этаже.