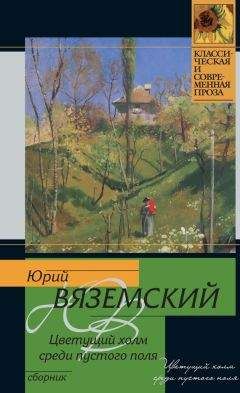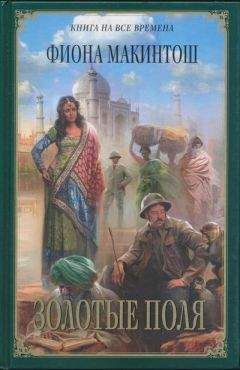Юрий Герт - Ночь предопределений
— Кстати, — сказал он, весьма, как ему показалось, уместно вспомнив о Статистике,— вы, наверное, знаете, или по крайней мере слышали о таком человеке... Казбек Темиров, так его зовут.
— Да, — сказала она, коротко взглянув на Феликса и тут же уведя взгляд куда-то вбок,— слышала, знаю.
— И близко?
— У нас тут все друг друга знают.— Она явно не желала встречаться с ним глазами.
— Видите ли, — сказал он, слегка задетый, но превосходно сознавая, что не должен, не вправе ни на что обижаться — целое yтро только и толковали о нем...— Он рассказал о Сергее и Карцеве.— Однако все это в основном произвольные построения, догадки. Чтобы понять, почему он на всё это пошёл — а в этом и весь интерес — надо знать, что это за человек...
— Он честный человек,— сказала Айгуль.
— Без сомнения,— подтвердил Феликс, внутренне умиляюсь той сумрачной, торопливой решительности, с которой она, словно возражая кому-то, это произнесла,— Без сомнения... Но честность, честный поступок — это как бы итог, а важны истоки, как бы слагаемые этого поступка...
— Он честный человек,— повторила она с нажимом.
— Разве я спорю?.. Ho вот взгляните,— Он поднял из-под ног заостренный камешек и вывел на песке; «10»,— Это число можно рассматривать как простую сумму: 2 плюс 8, или 5 плюс 5. А можно — как сумму алгебраических чисел...— Он написал по отдельности в скобках -7 и + 17, соединил их плюсом и провел знак равенства к начерченной прежде цифре 10.— Понимаете?— сказал он с надеждой,— Человеческая психология — это алгебра. Человек может быть героем, но это вовсе не исключает, скажем, ущемленного самолюбия, чувства зависти, мести...
Он был терпелив, как школьный учитель.
— Нет,— сказала она упрямо,— он просто честный человек.
Ему показалось,она с трудом сдерживает зазвеневшие в голосе слезы. Впрочем, наверное, лишь показалось.
— Ладно, - сказал он, — не будем об этом. — Он затер подошвой надпись на песке. Пожалуй, на сегодня с меня хватит капризов,— подумал он.
— Все мы честные,— сказал Феликс.— А такой вот Казбек Темиров — один...
— Вы уверены?— сказала Айгуль.— Что все мы честные?— добавила она, заметив его недоумевающий взгляд.
Ну вот, тоскливо подумал он, это конец.
— Айгуль,— сказал он, готовясь подняться,— это другой вопрос. И потом — о присутствующих не говорят... Я просто полагал, что вы поможете мне понять, узнать...
— Вы и так почти все знаете,— сказала Айгуль, против воли сдаваясь. На нее, наверное, подействовал его укоризненный, исполненный спокойного достоинства тон.— Что мне добавить?.. Он вдовец, у него трое детей, старуха-мать... Что еще?.. Ах, да,— вспомнила она, хотя нет, хотя только, разумеется, сделала вид, что вспомнила, он это понял, уловив тот самый, уже мелькнувший однажды, кинжальный сверк в ее зрачках,— ах, да... И еще: он сделал мне предложение.
— Что?
Ему, естественно, представилось, что он ослышался.
— Да,— сказала она.— Предложение.
Она это так, между прочим, небрежно уронила, особенно по второй раз. И он во второй раз не поверил, хотя, вопреки всему, ощутил внезапно в груди странный холодок. Чувство было такое, как будто там, внутри, обвалилось или рухнуло что-то, и возникла пустота, какая-то расселина, пещерка или дупло, и там, в той внезапной пустоте, потянул острый, знобящий ветерок.
Да нет, сказал он себе, дичь, розыгрыш...
— И что же?— спросил он.— Вы... приняли это предложение?..
Он через силу улыбнулся. У него так высохло в горле, что ему едва удалось вытолкнуть из гортани последнее слово. Что за дичь?— подумал он.— Ты-то... Тебе-то что?..
— Да,— уронила она так же небрежно,— наверное, я выйду за него замуж.
Взгляд, которым она следила за ним, был зорок, пронзителен.
Да тебе-то что?..— повторял он про себя. А холодным ветерком все тянуло в груди, все тянуло...
Конечно же, розыгрыш, Он представил Казбека Темирова с его сизой от седины головой и глубокими, словно взрезанными ножом морщинами — и рядом Айгуль, годящуюся ему в дочери.
Он пробормотал что-то — осторожное, об обычаях Востока, в том смысле, что на Востоке в прежние времена это никого не смущало, но...
— Только ли на Востоке!— сказала она.— Аполлонии Далевской было восемнадцать, когда она познакомилась с Сераковским, а ему — тридцать шесть. Разве не так?
Ловко,— подумал он.— Ловко...
— Спасибо,— сказал он, сворачивая тетрадку с Яном Станевичем в трубку и поднимаясь. Он еще раз взглянул в лицо Айгуль, надеясь, что она улыбнется ему своей обычной сияющей, озаренной улыбкой — и все разрешится смехом... Но она была неприступна.
В конце дорожки, с улыбкой во все лицо, взбивая мелкими, пошаркивающими шагами пыль, навстречу ему спешил Жаик.
4
Вот кто был рад его приезду — Жаик! Он так и цвел, завидев Феликса.
— Нехорошо мешать, молодые люди, только вы еще успеете наговориться! «Докажи свою благовоспитанность и уступи старшему...»— Приобняв Феликса за плечи, он уже вел его по дорожке.— Айгуль,— сказал он, обернувшись,— если меня спросят, я на совещании!— Он подмигнул Феликсу.— Сейчас мы пойдем ко мне, побеседуем, попьем чайку...
Феликсу было не до того, но что делать?.. Он не мог отказать старику.
В доме у Жаика — таком же, как и большинство в городке, с входом через двор, где на цепи метался не столь яростно, сколь громко лающий пес, и в глубине бетонным кольцом поднимался колодец, прикрытый сколоченной из досок крышкой, и пахло овечьей шерстью, птичьим пометом и кизяком,— в доме у Жаика было прохладно, даже сыровато, и воздух стоял спертый, как в погребе,— от ковров, от одеял, возлежащих пирамидой на раскидистой кровати, от горы подушек, обтянутых цветным сатином, от светло-серой, выстилающей пол кошмы, так что к этому воздуху следовало немного попривыкнуть, скорее даже не к воздуху, а к духу дома, к домашнему духу, обитающему в этих стенах, чтобы ощутить, до чего же здесь — после солнечного пекла — и тихо, и уютно, и мягко — на войлочной, хорошо укатанной кошме, с подушечкой под боком, в нежащей глаз полутьме от плюшевых занавесок, прикрывающих наглухо затворенные оконца, берегущие прохладу в доме от зноя, раскалившего все вокруг.
Правда, полумгла эта слегка рассеялась, когда Хадиша, жена Жаика, с таким же круглым, улыбчивым лицом, прираздвинула шторы, чтобы накрыть низенький стол, и Феликс вновь, как и в каждый приезд, убедился, что здесь все по-прежнему: в углу, рядом с окном,— ножная зингеровская машина с тускло-золотыми завитушками на черной станине, и около — столик с «ундервудом», сверстником швейной машины, перекочевавшим сюда, по словам Жаика, ради сохранности из музейной канцелярии, и тут же, бок о бок, — два старых фанерных шкафа, с подкрашенными марганцовкой — «под красное дерево» —застекленными дверцами. К их обычному виду, пожалуй, прибавилось лишь несколько фотографий, выставленных вдоль книжных корешков. На одной Жаик стоял на фоне какой-то аркады, в белых полотняных брюках и белых же, довоенного вида, парусиновых туфлях, на другой он заседал в президиуме, в самом центре таких же, как у него, молодых и серьезных лиц, на третьей отыскать его удалось не сразу — среди праздничной толпы, у входа в украшенное торжественными полотнищами здание. Фотографии были «из той», давней жизни... В остальном все иа полках сохранило привычный порядок: казахская классика, где современный шрифт соседствовал с арабской вязью, книги по истории, философии, краеведению, многотомная «История XIX века» Лависса и Рамбо — гордость Жаика, приобретенная после длительной переписки через один из ленинградских букинистических магазинов и занимающая чуть не целую полку, и в особом как бы тайничке, зажатые справочными изданиями и несмотря на внушительные габариты для беглого взгляда не слишком заметные: Коран в элегантном черном переплете, переведенный профессором Крачковским и в шестидесятых годах изданный Академией наук в качестве памятника восточной культуры, и рядом с ним Библия в толстой коричневой коже, вероятно, извлеченная со дна сундука какого-нибудь старообрядца, их раньше немало жило в рыбачьей слободе. И тут же, оттягивая на себя взор голубеньким корешочком, стоял томик Ярославского — наивная хитрость мудрого и осторожного Жаика...
— За встречу,— сказал Жаик, подняв граненую стопку.— За твой приезд. За то, чтобы твои дети, твоя жена и все твои родные и близкие были живы и здоровы. За то, чтобы ты сам был жив и здоров. Это главное, Феликс. А остальное перемелется. Так вы, русские, говорите: перемелется — будет мука... Ну, понемножку.
На столе, во след выпитой при входе в дом пиале кисловатого айрана, уже появились ломтики казы и чужук из жесткой, прокопченной конины, и желтеющее в стеклянной вазочке масло, и колобки нежно подрумяненных баурсаков, и белый, словно слепленный из известняка и под стать ему твердостью курт, и еще теплые, испеченные на углях лепешки-табанан, которые так приятно, не сминая упруго пружинящего теста, разламывать руками... Судя по всему, включая и армянский «КВ», его тут ждали, случайная встреча в музее для Жаика отнюдь не была случайной.