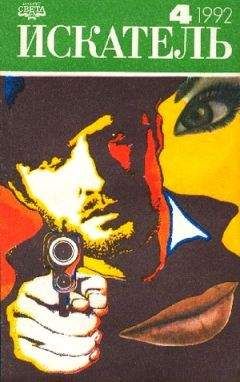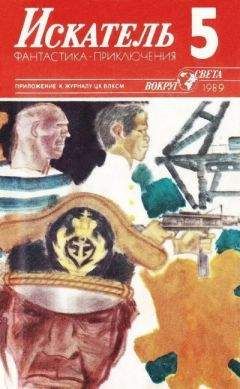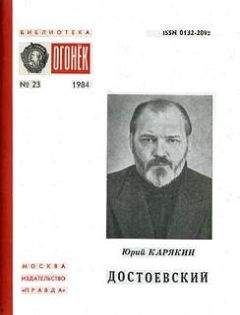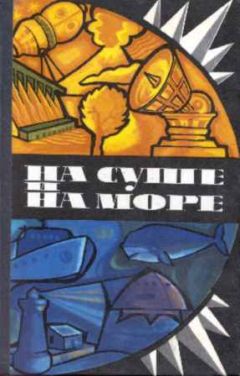Юрий Азаров - Подозреваемый
— Нехлюдов, — сказала она, улыбаясь.
— Нехлюдов знал, зачем он шел к Катюше, — ответил я.
— А ты не знаешь? Неужто?
Я молчал. Я понимал: ей нужно снять напряжение. Надо словесно размяться.
— Нет сигаретки?
Я предложил сигареты. Дал спичку. Это разрешается. Еще вытащил две плитки шоколада.
— Это оставь себе. Впрочем, давай, угощу кого-нибудь, — сказала она.
— Что это у тебя на руках? — спросил я.
— Приобщение к новой жизни. — Ее тонкие пальчики, такие нежные, такие изящные, были в кровоподтеках.
— Кто это тебя? Тебя пытали?
— В камере пять девок. Двух я не перевариваю. Вонь от них, чавкают, отрыжка — жуть. Я им предложила быть поаккуратнее, а они накинулись на меня впятером. Били алюминиевыми тарелками. Я голову берегла. Лицо закрыла. Так они по пальцам, по рукам.
— Ты кричала?
— Ни звука. — Сашенька улыбнулась.
Я думал, что у меня все прошло. А тут, как увидел Сашеньку, ее чистое лицо, шелковистые волосы, алые губы, глаза грустные, так в моей душе сразу все перевернулось. Все я готов был бросить, к ногам кинуться, лишь бы она любила меня.
— Я знаю, ты хорошо ко мне относишься, — сказала Сашенька. — Прости меня.
— Мне не за что тебя прощать, — отвечал я.
— Я ждала встречи с тобой. Ты один из немногих людей, которые могут слушать. Ты и Касторский. Шамрай — неофит. Он ничего не понимает. А ты все понимаешь. Мне надо выговориться. Я не могу все держать в себе. Сказать тебе правду хочу. Всю правду. А ты что хочешь делай с этой правдой. Я даже написала тебе письмо. Длинное. Я рассказала тебе обо всем. О себе. О том, как я стала такой. Помнишь, мы говорили об Эдгаре По. У него есть такая мысль: "Бог сковал природу судьбой, но дал свободу человеческой воле". Несвободный человек — это тот, кто находится в рабстве у предопределения. На Востоке говорят: мудрый управляет своей звездой, а невежда управляем ею. Я хотела найти свою звезду. Я искала. Хотела все испытать в жизни. Растратиться вся до конца, как говорит Цветаева. Поверь, мне и тюрьма нужна. Я знала, рано или поздно я этим кончу. Но еще не вечер. Еще жизнь не окончена. Еще все впереди. Еще мы встретимся. И мне хотелось, чтобы ты ждал этой встречи.
Тебя угнетает то, что я была и с тобой, и с Шамраем, и с Касторским. Представь себе, я люблю одного Шамрая. Но это странная любовь. Я приросла к нему физиологически. Нет, не то, о чем ты думаешь. Совсем не секс, а что-то более могучее, кровное. Я не вижу его. Я опускаю все то, что составляет его личность, но что-то в нем есть такое, без чего я жить не могу. Как не могу жить без твоей чистоты, без мудрости Касторского. Меня ты не интересовал ни как мужчина, ни как художник, кстати, тебе надо кончать с твоими поделками, ты зарываешь в землю свой талант. Ты меня интересовал только с одной стороны, как антипод Шамрая и Касторского. Ты — сама истина. Не догма, а истина. Истина, которая всегда в синяках и побоях, которая всегда в пути. Я думала, что у тебя нет почвы. А она есть. Это твоя пытливость. Это твое движение. Твоя любовь ко всем. Ты ведь всех любишь: и Петрова, и Касторского, и меня, и Шамрая. Ты в каждом любишь человека. И это твой великий дар. Я ненавидела тебя за то, что ты превзошел меня и благородством, и всеми теми качествами, к чему я стремилась в детстве. Я наделена мужским характером. Казалась себе сильной и смелой. А здесь, в камере, растерялась. Думала, что же я вынесла из этой жизни? Чему научилась? Что должна сохранить для своей следующей жизни? И о чем бы я ни думала, каждый раз возвращалась к тебе. Ты приходил и заслонял всех и все. Я поняла, что ошиблась во многом. Я оскорбляла тебя подозрениями. Все время думала, что ты у них на службе. Я знаю, что это не так. Я говорю сумбурно. Не могу войти в колею. Представь себе, я именно здесь уже от чего-то излечилась. Я думала, что не смогу вынести этой грязи. Раньше я неделями не могла выйти на улицу, если у меня не было хороших сапог или куртки, или сумки. Мое самочувствие зависело от упаковки. Теперь мне все равно. Спокойно могу ходить по улицам в тряпье и рванье. Мне так хочется тихой и спокойной жизни в бедности. Касторский фанатик. Когда он говорит о самоотречении, он имеет в виду совсем другое. Он — фашист, если ты хочешь знать. Я ненавижу его! Я была бабочкой в его коллекции. Булавку он еще не успел всадить в мою головку. Убила бы его сейчас. Я его не виню. Сама себя развратила. Знала, на что иду. Играла с ним, как играют с огнем. Он считал, что меня держит в рабах. Нет, это я его хотела превратить в шестерку. Просто времени не хватило. Слушай меня, раз пришел! Я не играю. Я как на исповеди с тобой!
Я смотрел на Сашеньку. В глазах ее светились гнев и растерянность. Растерянность сменялась решительностью. Щеки горели, алые губы пылали жаром, точно ее лихорадило. Я думал, расскажет ли она про свой обман. Впрочем, она все сказала. По мере того как она выговаривалась, стена отчуждения вырастала между нами. Она это чувствовала, и это ее оскорбляло. Она вдруг поняла, что не достигла того, чего хотела. Закрыла лицо руками, ее плечи задергались. Потом вдруг убрала руки и посмотрела на меня сухими и ненавидящими глазами:
— Не то я болтаю. Все не то. Думала, теперь у меня нет выбора, а оказывается, наоборот. Только теперь я поставлена перед выбором: как жить?
— И что же ты решила?
— Помнишь, мы читали с тобой Толстого, а потом не помню какую книжку, что-то индийское относительно кармы. Там написано было о том, что каждый человек поставлен на то место, на котором он должен исполнить свой долг. Этот долг может оказаться тяжелым, непосильным, тем не менее свой долг человек обязан выполнять радостно. Когда на первое место поставлен долг, а всякая мысль о себе отброшена, тогда-то и начинается истинный рост человека, его приближение к гармонии. Нас разъедает эгоистическая мысль о личном благополучии. Я раньше только и думала о том, чтобы реализоваться. Я стенала и орала, что мне идет третий десяток, а я ничего не сделала, ничего не достигла. Все мои мучения и страдания шли оттого, что я мало сделала в этой жизни. Я сама установила мысленно границы своего духовного роста. Заимствованные из книжек установки. Что входило в эти установки? Чепуха. Суетность. Мечтала стать писательницей. Или кинорежиссершей. Хотела заниматься философией. Громко заявить о себе. Какая глупость! Это эгоизм. Жуткий эгоизм. Я поняла, что, только изжив в себе эгоизм, мы сумеем раздвинуть рамки своей ограниченности. Современный интеллигент бесконечно далек от истины, потому что он зажат в тисках собственного "я", собственной узколобости, он далек от выполнения человеческого долга. Я хочу до конца испытать себя. И я здесь многое поняла.
Я смотрел на нее и не мог сообразить, чего она хочет. О чем она еще хочет узнать, чем я могу ей помочь.
— Может быть, тебе что-нибудь нужно? — тихо спросил я, воспользовавшись паузой.
— Тебе неинтересно то, о чем я говорю? — спросила она.
— Нет, очень интересно, — ответил я. — Только я думаю, а вдруг не так себя веду. У нас слишком мало времени.
— Ты чудо. Я как вспомню ту безобразную сцену, когда я закатила истерику с этим изнасилованием. Это у меня от бессилия. Прости меня. Дрянь я. Ужасная отвратительная дрянь. — Сашенька заплакала. — Все я тебе наврала. Все неправда. Не имела я права говорить тебе неправду. Зарок себе дала: не говорить тебе неправды. А вот снова из меня лезет гнусная ложь. Клянусь, больше не буду! Все не так было. Пришла я амазонкой в камеру. И стала изображать бывалую атаманшу. "Встать, падлы!" — говорю. Они лежат. А я снова: "Встать, а то пасть порву!" Они на меня как накинулись: "Кто ты такая?!" Как только они меня ни били. А за обедом, это правда, стали тарелками лупить по рукам. А потом за волосы и в остатки супа мордой. А вечером раздели догола, к стенке поставили и стали плевать в меня. Я попыталась сопротивляться, бросилась на них с кулаками, а самая сильная их них, Клавка Рыжая, как саданет меня под дых, тут я и свалилась на пол. Лежу на полу, а они что есть силы топчут меня каблуками. Стараются бить по таким местам, чтобы не было видно синяков: кто по пяткам, кто по затылку, а кто в грудь. Изверги! Те в один голос: "Проси прощения у всех сразу". Я молчу. Решила: умру, а просить прощения не буду. А они еще злее стали. Наступила ночь: они новые пытки мне придумали: иголками в спину стали тыкать. Я не выдержала, подбежала к двери и стала в нее колотить. Прибежала надзирательница: "Что такое?!" А я говорю: "Переведите в другую камеру!" А она: "Еще чего захотела! Спать всем, чтоб духу вашего не было слышно". И захлопнула двери. Я в кровать, а они снова начали издеваться и требовать: "Проси прощения!" А я не могу у них просить прощения. Кинулась я на них, как собака, одну укусила, другую ударила, третью за волосы ухватила, вырвала клок. Они заорали, вызвали охранницу, сказали ей: "Дерется новенькая, вот клок волос, вот синяки, вот укусы!" Меня в карцер, на голые доски. Замерзла я в карцере. Страшно мне сделалось, зуб на зуб не попадает, умру, думаю, стала кричать, пришла охранница, принесла старое одеяло, укрылась я, сжалась в комочек, всю свою жизнь проклинаю, за что же это все мне, почему я такая несчастная. Утром снова прошу перевести меня, а охранница снова на меня наорала, и я поняла, что такое жестокость, что такое, когда никому до тебя дела нет. Через сутки снова я оказалась в камере, и снова новые пытки. Рыжая Клавка совсем озверела. Ночью она такое придумала, что мне и сказать стыдно. А от нее действительно такая вонища идет, что сознание теряешь, а она лезет на тебя своим задом, садится прямо на физиономию, рвало меня, а им все равно, хоть умри я там, а они все равно свое, одна на ногах сидит, другая на руках, третья волосы на спинку кровати накрутила, а Клавка Рыжая… — Сашенька закрыла лицо руками и заревела беззвучно, и такая беззащитная безнадега шла от нее, что мне стало жутко. — Я не выдержу! Я умру! Спаси меня. Умоляю тебя!