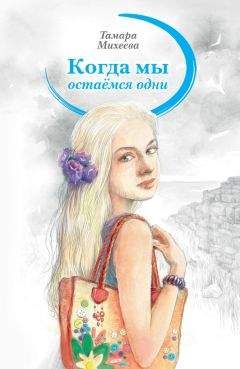Юрий Азаров - Новый свет
— Вот настоящий и великий принцип! — закричал я. — Принцип, который дорог нам и от которого мы не можем отступаться!
— Что это значит? — спросил Шаров.
— Это значит, что любое дело должно и нам, и детям доставлять наслаждение. А если его нет, то никакого будущего мы не построим и никакого воспитания у нас не получится.
— Там до вас прийшли, — робко сказала просунутая в дверь голова Петровны.
— Кто?
— Кажуть, борцы за свободу. Один в наручниках, а другий, грех сказать, с дощечкою, на якой написано: «Государственный преступник». А третий так очима блискае, шо аж страшно.
— Скажи — комиссия у нас! — нервно бросил Шаров. — Нам тильки государственных преступников не хватало тут.
Я приоткрыл занавеску. На пороге стояли Достоевский, Чернышевский и Ушинский. Опрометью, не спрашивая Шарова, я выбежал из комнаты и впустил гостей. Навстречу им поднялся только Спиноза. Он приподнял цепь, которой был скован человек, помог ему сесть рядом с другими двумя пришельцами. У Гегеля и Канта не вызвал восторга приход новых людей, весьма странных как по одежде, так и по всему человеческому обличью.
— Я, как вы знаете, являюсь почитателем столь уважаемых европейцев, — сурово сказал Федор Михайлович. — Хитрости мирового Разума могут вовлечь человека и в самые губительные преступления, и в праведное дело возрождения истинной человечности. Я согласен, цель, ради которой я должен быть деятельным, должна обязательно являться и моей целью. Ничто великое в мире не осуществляется без страсти. У культуры нет выбора — Христос или мессия Наполеон. Для меня тоже нет этой альтернативы. В отличие от господина Гегеля, не считаю великих цезарей великими. Наша отечественная мысль уходит в иные пласты и по вопросу о воспитании. Досадно, что столь уважаемые европейцы формулу непременного совпадения целей ребенка и целей воспитания изуродовали «здравым» смыслом прусского опыта дисциплины в наручниках. На это правильно обратил внимание в своих работах господин Ушинский…
На середину комнаты выехала вдруг площадка, на которой оказался Ушинский в образе пророка-фанатика, лицо которого быстро-быстро писал, как мне показалось, человек, похожий на Васнецова. Писал и почему-то отхлебывал из пузырька скипидар, который ему подавала Манечка.
«Он же отравится, Манечка», — хотелось мне крикнуть ей, но она так мило и надежно улыбалась, что я понял: опять Манечка какую-то игру затеяла.
Между тем фанатик-пророк, поглядывая в тот угол, где виднелся край бороды Достоевского, сказал:
— Воспитание, созданное самим народом на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных заимствованных идеях.
— Я надеюсь, вы не становитесь тем самым на славянофильские рельсы? — спросил человек, будто стыдясь таблички на груди. — И, разумеется, вы тем самым не отрицаете достижения европейской науки и культуры?
— О чем вы говорите, Николай Гаврилович? Из двух систем я склоняюсь больше к американской, чем к прусской, потому что последняя вся пронизана муштрой, наукообразием и педантизмом. Свобода, свобода и еще раз свобода — вот что необходимо нашему воспитанию!
Как только сказаны были эти слова, свет пошел по потолку, такой бывает в самый разгар северного сияния: голубой, красный, желтый, переливчатый, и все засуетилось в ожидании чуда. Шаров выхватил в волнении у Васнецова пузырек со скипидаром и тут же опрокинул его в себя, Каменюка поднял дрожащие руки, шепча что-то о присвоенной бочкотаре, Злыдень, почему-то обрадованный, дергал меня за ухо, спрашивая:
— А шо, воны уси будуть работать у нас?
— Нет, — качал я головой.
— А шо, ставок немае?
— Отстань, — нервничал я, стараясь не потерять нить спора.
— А то було б як до вийны: музыка грае, пиво у бочках холодное, и рассказують добри люды ось так, у холодочку. В это время вошла Петровна.
— Принесла гуся, — сказала она.
— Та я ж сказал жареного, а не живого! — возмутился Шаров.
Гусь красным глазом повел вокруг и заговорил по-человечески, заглушая голос Достоевского:
— Система нужна, потому что все действительное разумно. Только система может разрешить все противоречия. — В человеческом голосе гуся слышались одновременно интонации и Гегеля, и Дятла.
Я всмотрелся в птицу. Она была окольцована. Я прочел на медном браслете: «Нео…» — а дальше было совершенно неразборчиво — то ли неогегельянец, то ли неоницшеанец. А гусь продолжал орать:
— Всех унифицировать, уравнять, подстричь под одну гребенку, превратить в табуреточные проножки! Никаких субъектов! Только проножки!
— Чого це вин? — спрашивал Злыдень у Спинозы.
— Обычное перерождение, — спокойно отвечал философ. — Он думает, что он системщик, а на самом деле мизантроп, вульгарный метафизик.
— Шо вин каже? — спросил Злыдень у Сашка.
— Вин каже, что уси люди — гуси, а вин только и е людына. Ось тебе зараз и зажарять, як гуся.
— Все располовинить! Всех расчетверить! Всех превратить в проножки — это и есть самый великий закон тождества! — орал гусь уже нечеловеческим голосом. — Система — вот единственная духовная и социальная революция.
Я силился во сне избавиться от назойливых гусиных звуков, мне так хотелось до конца расслышать слова автора «Карамазовых», а его лицо уплывало в красных бликах, только голос звучал твердо и доказательно:
— Отрицание необходимо, иначе человек так бы и заключился на земле как клоп. Отрицание всего, даже земли, нужно, чтобы быть бесконечным. Христос, высочайший положительный идеал человека, нес в себе отрицание земли, ибо повторение его оказалось невозможным. Один Гегель, немецкий клоп, хотел все примирить на философии.
Гусь вдруг вырвался из рук Петровны, замахал крыльями и затараторил:
— Личность — монада. Объединение монад — группа, объединение групп — толпа. Только через систему, в системе и для системы монада может стать всесторонней.
— А мы что доказывали? — в два голоса сказали Дятел и Смола.
— Все беды идут от раздвоения, от превращения личности в монаду, состоящую из частиц, — спокойно проговорил вошедший в комнату Волков.
— Это не совсем так, — ответил Гегель. — Сознание содержит в себе раздвоение. Говорят, правда, этого не должно быть. Однако свобода, которую вы здесь возвели в принцип, есть не что иное как раздвоение и рефлексия. Свобода состоит в том, чтобы человек мог выбирать между обеими противоположностями…
— Значит, свобода — это выбор? — спросил Кант. — Категорически не согласен. Свобода — это соблюдение предписаний, законности, моральных норм.
— Человек отвечает за себя сам, — пояснил Гегель. — Для него существуют границы лишь в той мере, в какой он их полагает. Это самоограничение человека и есть мера реальной его свободы. При этом совпадение человеческой склонности и закона — высшая добродетель!
— Вплотную подходит, — сказал я тихо Шарову, а Гегель между тем продолжал:
— Вы хотите непременно открывать новое. А напрасно. Вы лучше бы попытались возродить утерянные человеческие качества. В этом весь смысл философии, науки, жизни.
— Я за полную определенность, — говорил между тем Достоевский. — За бескомпромиссность нравственных норм. Неопределенность надо уничтожить, а не умиляться ею, иначе относительность деления и различий сама нас уничтожит. Я люблю жизнь во всей ее полноте. Люблю жизнь ради самой жизни. Люблю горячо и страстно и хочу, чтобы в ней победила красота. А что касается подпольности и ложного раздвоения, то это крайне своевременный вопрос. В прошлом веке эта проблема возникала на мучительной вершине человеческих страданий. Сейчас подпольность пала в самый низ человеческой жизни. Обратилась в фарс. Что получилось? Сейчас нечего прятать в подполье! Пусты тайники! Хранить нечего! Поэтому я поддерживаю мысль о том, что главной целью должно стать возрождение человечности, и на этой основе каждый может обрести свою целостность!
— Все не так! Все наизнанку! — шипел гусь. Шипел так неприлично, что Шаров был вынужден крикнуть Петровне:
— Убери ты эту птицу.
Я снова напрягся, пытаясь расслышать Достоевского, чье лицо снова выплыло из красных всполохов, прыгавших от взмахиваний гусиных крыльев.
— У нас много своих социальных вопросов, — раздавался голос русского мыслителя, — но совсем не в той форме и не про то. Во-первых, у нас совсем много нового и непохожего против Европы, а во-вторых, у нас есть древняя нравственная идея, которая, может быть, и восторжествует. Эта идея — еще издревле понятие свое имеет, что такое долг и честь и что такое настоящее равенство и братство на земле. На Западе жажда равенства была иная, потому что и господство было иное.