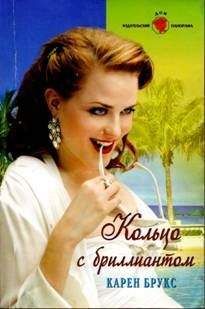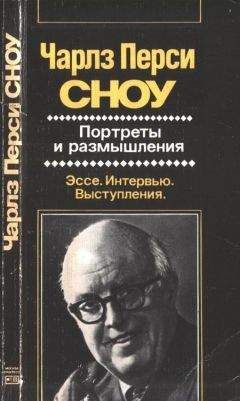Чарльз Сноу - Коридоры власти
Что характерно, общеизвестные и даже бьющие в глаза факты Роуз выдавал как секретную информацию. Я не хуже его сквозь снежную крупу видел освещенные окна «Клуба объединенных вооруженных сил», который Роуз именовал «Старшим», оттого что в него допускаются исключительно старшие офицерские чины. Единственное, чего мне хотелось, — чтобы Роуз прекратил паясничать и мы уселись наконец где-нибудь в тепле.
И мы уселись в тепле. Мы заняли столик в углу клубной гостиной и заказали чай с маффинами. Роуз был одет неофициально — в клубный пиджак и брюки серой фланели. Однако переходить к делу и не думал. Не похоже на Роуза; я, можно сказать, растерялся. Обычно Роуз переходит к делу резко, будто кран выключает, — конечно, не раньше, чем сочтет прелюдию удовлетворительной, а у него свои критерии. Он выработал такой специфический стиль поведения, и так разнится этот стиль с истинной его натурой, что лишь человек привычный уловит его настроение, и то не всегда. Изощренные извинения сменились светской болтовней. Меня не отпускало пренеприятное чувство, что повод, по которому Роуз настоял на встрече, слишком серьезный, что Роуз просто тянет время, не знает, с какого боку подступиться.
Мы выпили чай и съели маффины. Роуз взялся за воскресную газету, стал проявлять повышенное внимание к рубрике «Книжное обозрение». Нашел пару-тройку новинок, могущих заинтересовать мою жену, перед которой он виноват, которой он испортил воскресенье, вырвав из лона семьи дражайшего Льюиса… И так далее и тому подобное.
Обычно я терплю, но тут не выдержал.
— Зачем вы меня пригласили?
Роуз ответил невнятным выражением лица.
— Полагаю, — продолжил я, — наше присутствие здесь связано с Роджером Квейфом. Я прав?
— Связано, но не напрямую, — ответил Роуз отрывисто — перестроился наконец на деловой тон. — Нет, насколько мне известно, ничего судьбоносного не случилось. Начальство практически готово утвердить законопроект, при составлении какового паче чаяния авторами было явлено изрядно здравого смысла. Законопроект зачитают на заседании палаты на следующей неделе. Разумеется, это компромиссный вариант, однако и в нем найдется горсть рациональных зерен. Будет ли наше начальство настаивать на сохранении этих зерен, если ситуация перейдет в категорию критических, — другой вопрос. Будет ли на этом настаивать наш друг Квейф, когда окажется в полосе огня? По моему скромному мнению, тут есть о чем подумать… — Роуз уже сбросил личину — но продолжал наблюдать за мной.
— Я вас внимательно слушаю.
— Полагаю, это было бы логично, — изрек Роуз как бы с высоты Олимпа, как Юпитер, еще не определившийся с фаворитом и довольный, что не нужно утруждаться интимничаньем. — Не берите это в голову, мой вам совет, любезнейший Льюис.
— А что тогда брать? — Я снова затруднялся с расшифровкой выражения его лица — властное, оно теперь, когда Роуз не вымучивал улыбки, казалось почти искренним.
— Кстати, — продолжал Роуз, — мне пришлось провести некоторое время с сотрудниками отдела госбезопасности. — И добавил со злостью: — Весьма продолжительное время, смею заметить.
Внезапно до меня дошло — по крайней мере показалось, что дошло. Первое января выпадает нынче на вторник. Каждый год Роуза включают в комитет, составляющий списки на представление к наградам и титулам. Возможно ли, чтобы из нашего министерства произошла утечка информации?
— Что, отдельные фамилии стали известны? — спросил я.
Роуз посмотрел раздраженно.
— Боюсь, любезный мой Льюис, я не совсем улавливаю вашу мысль.
— Я имел в виду фамилии из списка, который будет оглашен на следующей неделе.
— Нет, дорогой друг, ничего подобного не случилось. Дело совершенно не в этом.
Обычно Роуз более успешно скрывает нетерпение. Теперь, прежде чем снова заговорить, и заговорить спокойно, четко, взвешенно, Роузу пришлось предпринять определенные усилия.
— Любезнейший Льюис, я не хотел пугать вас понапрасну. Однако я припоминаю, как несколько месяцев назад рассказывал вам о заявлениях самых разных сторон, каковые заявления ваш покорный слуга опровергал по мере своих слабых сил. Когда же это было, не подскажете, любезнейший Льюис?
У нас обоих отличная память, притом натренированная. Роуз и без меня знал, что эти именно слова были произнесены им в сентябре уходящего года, одновременно с предостережением о заточке ножей. Мы с одинаковым успехом могли бы конспект разговора написать.
— С великим сожалением вынужден отметить, дражайший мой Льюис, что не смогу сдерживать натиск до бесконечности. Этим гражданам — не подскажете, как они сами себя называют, на своем отвратительнейшем жаргоне? — мне помнится, «влиятельными группами». Так вот, им не привыкать идти по головам. От них нет спасения. Отдельных наших ученых — я говорю о наиболее выдающихся ученых, чьим мнением правительство руководствуется при выборе оборонительной политики, — каковую политику проводит и наш друг Квейф, о чем нет нужды сообщать вам лишний раз, — так вот, отдельных наших ученых влиятельные группы вознамерились подвергнуть внеочередной проверке на благонадежность. Кажется, официальное название этой проверки — не сочтите дурным каламбуром — «двойная проверка».
Роуз едва не кривился от отвращения, как ко мне, так и к «влиятельным группам»; говорил авторитетно, мрачно, четко. Процесс запустил Броджински; именно он обработал членов «влиятельных групп» — тех, которых знал лично. Другие озаботились проблемой независимо от Броджински. Отдельных навела на мысль публикация его речи или же его американские друзья. Были и такие, кого не оставил равнодушными парламентский запрос.
— Будь влиятельные группы разобщены, — продолжил Роуз, — мы бы им противостояли. От вашего внимания вряд ли укрылось то обстоятельство, что наше начальство, получив «предложение» от наших основных союзников, не стало проявлять себя наследниками Кромвеля — уж простите мне эту метафору — в той мере, в какой могло бы. Но их объединенным силам мы противостоять не сможем. Окажите любезность, поделитесь соображениями.
Наши глаза встретились, лица остались непроницаемы. В щедрости на излишние извинения Роузу нет равных, зато, когда ситуация извинений требует, никто так не скаредничает, как Роуз.
— Дело идет к тому, что отдельные наши наиболее выдающиеся ученые, коим страна столь многим обязана, вынуждены будут подвергнуться крайне унизительной процедуре. В случае отказа от упомянутой процедуры сим выдающимся умам будет закрыт доступ к делу их жизни, равно как и к общению с коллегами.
— Назовите фамилии.
— Две-три из них вам ничего не скажут. Правда, в списке значится сэр Лоренс Эстилл.
Я не сумел сдержать улыбки. Роуз холодно усмехнулся.
— Должен заметить, — начал я, — это весьма забавно. Прямо захотелось поприсутствовать.
— Подозреваю, — отвечал Роуз, — эту фамилию внесли для приличия.
— Кто еще в списке?
— Уолтер Люк. Между нами: поскольку он главный советник правительства по науке, я принимаю подозрения относительно его персоны крайне близко к сердцу.
Я выругался и уже спокойнее сказал:
— Уолтер — человек стойкий, выносливый. Не думаю, чтобы он стал противиться.
— Надеюсь, вы правы. — Роуз выдержал паузу. — Еще один ученый из списка — ваш старинный друг Фрэнсис Гетлифф.
На несколько секунд я лишился дара речи, наконец выдохнул:
— Это же скандал.
— Видите, я пытался довести до вашего сознания тот факт, что сам далеко не в восторге от сложившейся ситуации.
— Это не просто скандал — это серьезно, — продолжил я.
— Вот и одна из причин вытащить вас сюда в воскресенье.
— Послушайте, я отлично знаю Фрэнсиса. Мы с юности дружим. Фрэнсис болезненно самолюбив. Мне кажется, он не согласится. Наверняка не согласится.
— Ну так убедите его. Кому, как не вам?
— Допустим. Но какие аргументы приводить?
— Упирайте на чувство долга перед отечеством.
— На это уже упирали — когда уговаривали Фрэнсиса сотрудничать. Теперь, если вынудить его еще раз…
— Любезнейший мой Льюис. — Роуз сверкнул глазами, и на лицо его тотчас возвратилась непроницаемость. — Практически каждого из нас то и дело к чему-нибудь да вынуждают, причем зачастую — до самой пенсии. Пусть мы не столь выдающиеся личности, как Гетлифф, однако все же сравнительно недурные специалисты. И факт определенного, гм, насилия отнюдь не дает нам права слагать с себя полномочия.
Едва ли не в первый раз я услышал от Роуза жалобу, пусть и завуалированную.
— Фрэнсис только одного хочет — чтобы его оставили в покое, не мешали вести исследовательскую работу, — сказал я.
— Если позволите, за недостатком воображения, использовать ваш лексикон, посмею заметить, дражайший Льюис, что отказ вашего друга Фрэнсиса Гетлиффа от процедуры вряд ли увеличит шансы — как его, так и наши с вами, и вообще всех, кто «замешан», — быть оставленными в покое. Так-то, дражайший мой Льюис.