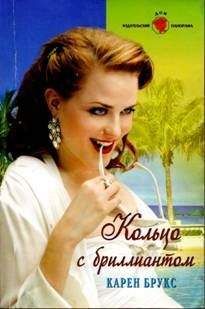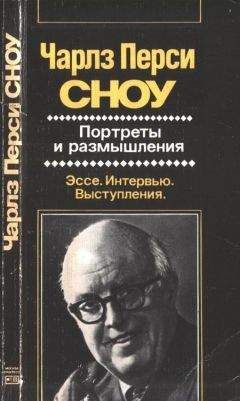Чарльз Сноу - Коридоры власти
Ну а если личная неприязнь ни при чем, тогда как — Худ для себя чего-то хочет? Или на кого-то работает? Внезапно Эллен разразилась параноидальным монологом. Спецслужбы выделили отборных шпионов; за Эллен с Роджером следят, понаставили «жучков», знают теперь о каждом их вздохе. И Броджински нельзя сбрасывать со счетов. Но кто же так велик и ужасен, кто дергает этих марионеток?
Я не сумел успокоить ее, не сумел убедить в нелепости подобных предположений. Я не знал, что происходит. В пустом зале, под перекрестным огнем цветовых пятен я сам себе показался объектом многосторонней слежки.
Эллен хотелось закричать, заплакать, броситься вон из зала, отдаться Роджеру — сделать хоть что-нибудь. Лицо ее пылало, но, отведя глаза буквально на секунду и снова взглянув на нее, я увидел уже бледность до прозелени — так обычно лихорадят дети.
Она не успокоилась даже — обмякла, будто стержень вынули. Ей было страшно. Не скоро я дождался следующей фразы:
— Если это будет продолжаться, не знаю, как я выдержу.
Выяснилось, что Эллен не в своей силе духа сомневается, а Роджера. «Я не знаю, выдержит ли он» — вот что на самом деле она не решилась сказать. А еще она умолчала о новой причине, по которой Роджер может отказаться от нее. Некоторые свои страхи она озвучивала — при первой нашей встрече призналась: Роджер, мол, никогда ей не простит, если из-за нее развалится его политическая карьера. Озвучить новую причину казалось Эллен предательством. Да, она боготворит Роджера — но она и знает его, как никто. Преследования, шантаж отнюдь не укрепят его дух, напротив — заставят искать убежища, загонят опять в общество коллег да под крыло к жене.
— То, что сейчас происходит, его почти не касается.
Эллен и эту фразу несколько раз повторила. Она имела в виду, что Роджер не думает о шантаже каждый день и каждый час.
— Со мной он получает удовольствие. А я — я им наслаждаюсь.
Произнесено было со свойственным Эллен отсутствием иллюзий.
— Только теперь этого недостаточно. Я бы от всего отказалась, ела бы один хлеб, ютилась бы на задворках — только бы поближе к нему. Я согласна вовсе к нему не прикасаться, если взамен можно быть подле него. Всегда, понимаете? И днем, и ночью — всегда.
Часть IV. Перед выбором
Глава 1
Заупокойная служба
Колокольный звон из церкви Святой Маргариты, что в Вестминстере, приглушала плотная шапка серых туч. Был полдень, третий день после Рождества, перерыв в парламентских заседаниях, но премьер с Коллингвудом, оба в цилиндрах и визитках, прошли на крытую галерею. За ними проследовали еще три министра, группа престарелых пэров и, наконец, Роджер и Монти Кейв. Прохожие не обратили на них внимания — важные персоны в цилиндрах; верно, была причина им собраться в церкви.
Я сидел на скамье в среднем ряду, свет здесь почему-то казался ярче, чем на открытом воздухе, — не иначе какой-нибудь оптический эффект. Над алтарем мерцал витраж, совсем как у нас дома, на входной двери, когда я был маленький, или сейчас у Осболдистонов. Холеные лица, оживленные Рождеством, удерживали выражение торжественности момента — но не скорби. Государственные мужи участвовали в церемонии, составлявшей одно из главных их удовольствий. Коллингвуд преклонил колена. Прочие министры и члены парламента занимали первые две скамьи, действовали согласно обряду, делали то же самое, что их преемники станут делать для них, когда придет час по ним звонить в колокол.
Хотя на самом деле человек, поминаемый ими теперь, отнюдь не удовлетворился бы числом и качеством оказанных ему почестей. Скромный по натуре, он зато безошибочно высчитывал разность заслуг и уровня церемонии. Церковь, в частности, была заполнена едва наполовину. Кворум не собрался, сказал бы покойный. Но главное: хоронили не в самом аббатстве. Покойный назвал бы церемонию в церкви Святой Маргариты утешительным призом.
В возрасте восьмидесяти восьми лет в лучший мир отошел старый Томас Бевилл, и случилось это перед Рождеством. В начале войны он занимал министерский пост, а я числился в его ближайшем окружении. Именно Томас Бевилл ввел меня в политику; я знал его лучше большинства присутствующих. Никто, и в первую очередь он сам, не назвал бы его великим человеком, а все же я очень многому у него научился. Бевилл был политик в узком смысле слова, прирожденный политик. Набил руку на дергании рычагов — вообще-то такая сноровка характерна для общественников колледжских масштабов, вроде моего приятеля Артура Брауна.
Бевилл был аристократ; если он и мямлил на политические темы подобно артисту любительского театра, то делал это намеренно. На любителя Бевилл тянул не больше, чем ирландцы при запуске «политической машины» американских демократов. К политике Бевилл питал страсть. Как любой человек, для которого политика не столько средство, сколько самоцель, он трезво оценивал все шансы, кроме собственных. В 1943-м, в возрасте семидесяти четырех лет, Бевилла вежливо, но настоятельно «попросили»; ему одному тогда было невдомек, что это конец. Однако он медлил с получением пэрства — все надеялся, что к власти придет новое консервативное правительство и позовет обратно. Новое консервативное правительство пришло, а телефонного звонка Бевилл так и не дождался. На восемьдесят пятом году принял заранее ненавистный титул виконта, но продолжал изводить знакомых: а не появится ли по уходе премьера возможности получить новую должность? На категорическое «нет» голубые его глаза наливались кровью; впрочем, проявление недовольства дальше не шло. Последние четыре года Томас Бевилл прожил в новом качестве — лордом Грэмпаундом.
Это был конец. Бевилл, конечно, войдет в анналы истории в виде упоминания, но никогда не удостоится персональной биографии. Я взглянул в распорядок церемонии: «Томас Бевилл, первый виконт Грэмпаунд». Неизвестно почему стало грустно. Вокруг бормотали ответствия. Подле премьера и Коллингвуда стоял Роджер, уверенный, важный; его голос выделялся в общем нестройном хоре.
Я чувствовал не только грусть, но и отчужденность. Причину я не мог сформулировать. Именно такие проводы правящие круги устраивают своим верным членам; тут все на уровне. И нельзя сказать, чтобы я любил Томаса Бевилла. Да, в свое время я числился его соратником — но вне работы мы не пересекались. Ко мне Томас Бевилл относился с доброжелательностью исключительно из природного благоразумия — впрочем, как всегда и ко всем своим коллегам; отступать от этих принципов его заставляли только обстоятельства непреодолимой силы. Бевилл был убежденный тори и патриот — впрочем, всякий, кто вздумал бы копнуть его патриотизм, наткнулся бы на пустую породу из категории наносных. Но не этими мыслями я тешился во время отпевания. Я как бы и не присутствовал, как бы абстрагировался от уверенных лиц и голосов, я был рядом с Томасом Бевиллом, говорившим своей смертью: и вас тоже спишут, дайте срок.
Служба кончилась, скорбящие потянулись к выходу из церкви, заулыбались, довольные тем, что отдали дань, что подышат сейчас свежим воздухом. О покойном не говорили. Премьер, Коллингвуд и Роджер уехали в одном автомобиле. Монти Кейв смотрел им вслед.
— Продолжим после обеда, — сказал он Сэммикинсу, не замеченному мной в церкви.
Он имел в виду, что особый комитет заседал нынче утром, но пока ни до чего не договорился. Мы уже знали: заседание — последнее, потому-то не присутствуют ни советники, ни ученые, ни чиновники за исключением Дугласа. Монти своими умными, глубоко посаженными глазками проводил автомобиль до поворота с Парламент-сквер.
— Очень своевременно, не правда ли? — уточнил он у Сэммикинса.
Внезапно, будто сам возмущаясь собственным приглашением, Монти спросил, где мы обедаем. По дороге на Смит-сквер, к его дому (где мне прежде бывать не доводилось), Сэммикинс оживленно болтал, а мы с Кейвом отмалчивались. Интересно, думал я, Кейв пригласил меня и Сэммикинса, потому что одиночество стало ему несносно или имеет сообщить нечто важное?
Высокий, какой-то узкий дом на наши шаги отвечал гулким эхом. Мы прошли в столовую. Я посмотрел в окно. Странный оптический эффект у зимнего воздуха — разрушенная церковь показалась мне сфотографированной в стиле «сепия». Да еще развалины — ни дать ни взять иллюстрация к готическому роману. Правда, сама комната была нарядная, теплая; одну стену украшал Сислей (тополя над водой с солнечными бликами), другую — Никола де Сталь (фрукты на белом блюде).
Я заинтересовался третьим полотном. Кейв смутился — он не знал, кто автор. Кейв прочел книг больше, чем кто-либо из нашего круга, однако изобразительное искусство не воспринимает. Картины покупала его жена; он теперь избегал на них смотреть.
Подали авокадо, холодную курицу, отварной язык, сыр. Кейв ел с жадностью; Сэммикинс выказывал меньший аппетит, зато почти уговорил бутылку рейнвейна. Мы же с Кейвом давно переняли правило начинающих служащих — не пить до вечера.