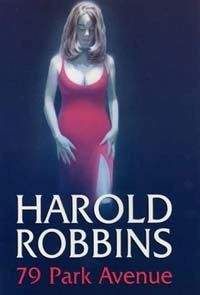Джойс Кэри - Из первых рук
— Вспомните Китса, Шелли, Гопкинса, Сезанна, Ван-Гога. А теперь вы.
— Я? А что я? — сказал я. И скис. Еще бы. Получить такой щелчок, как раз когда я настроился радоваться и веселиться.
— Посмотрите, как они обращаются с вами, — сказал Носатик. — Уж-жасно. Ведь вам даже жить негде. Уж-жас. К-кошмар.
Лицо Носатика было в слезах. А может, просто капли дождя стекали по его клюву. Поэтому-то он и корчил уморительные рожи.
Из-за него я и сам чуть было не заплакал. Так мне себя стало жалко. И все же, уверяю вас, я был в отличнейшем настроении. Вот, сказал я себе, получил? Стоит чуть разоткровенничаться — и тебя сейчас же начнут жалеть. И сам ты себя жалеешь. Клянешь свою судьбу. И так далее и тому подобное. Вгоняешь себя в тоску. И тогда еще на неделю прощай работа. Нет, шалишь! И я налетел на Носатика.
— Что вы ко мне пристали, молодой человек? Кто это со мной плохо обращается? Что уж-жасно? Будь у тебя хоть капля здравого смысла и чувства справедливости, — сказал я, — ты понял бы, что со мной превосходно обращаются. Именно так, как я заслуживаю. Ведь у меня нет и не было ни одного врага. Кроме этой треклятой картины. Да и тут провидение в лице мамаши Коукер избавило меня от нее. Надеюсь, что избавило. Потому что змия надо бы для верности тюкнуть хорошенько еще разок-другой. Разрежь его на четыре части — он все равно исхитрится одним концом жалить и плеваться ядом тебе в глаза, а другим обвиваться вокруг твоих ног. Эта картина была моим проклятием. Она не давала мне писать то, что хочется. Писать, — сказал я, и пальцы сами собой сомкнулись вокруг воображаемой кисти и положили мазок, слева направо. Любимое мое движение.
И вдруг я понял, почему мне так осточертело «Грехопадение». Теперь я знал, что мне писать. Что-то синевато-серое на розовом фоне. Башня. Или что-то другое. Круглое, тяжелое. Что-то вроде газового счетчика со срезанным верхом. Нет, скорее эмалированный кофейник. На переднем плане — темно-желтое пятно: египетские колонны, или лук-порей, или, может, гантели, или ивы. Или медные подсвечники. Слева тоже что-то круглое, но не очень вытянутое: скажем, полый толстый столб или стеклянный валик, торчащий из зеленых волн, или гор, или из складок зеленого сукна — все равно что, но обязательно темно-зеленое с волнистой поверхностью. И внизу, резким контрастом, что-то темно-красное, загибающееся вправо — песчаный берег, горный кряж или связка сосисок. Розовое — не слишком яркое — вулканическое извержение или дачные обои. А в верхнем левом углу неожиданное пятно — клубы дыма или плюшевый занавес. Все осязаемое. Но не застывшее. Трехмерное. Обратить особое внимание на фактуру.
— К тому же, — сказал я Носатику, — у меня уже совсем готова новая картина. Гораздо лучше той. — Картина была еще не совсем готова. Но мне казалось, она будет готова за пять минут. — Готова в мыслях, — добавил я.
— Лучше? — сказал Носатик с сомнением в голосе. Как ребенок, у которого только что унесло старый любимый кораблик, а взрослый дядя говорит, что у него в шкафу припасена игрушка куда занятнее. — Все равно это будет другая картина. Не «Грехопадение».
— Почему? — сказал я. Правда, почему бы мне не назвать новую картину «Грехопадение»? Не все ли равно, как ее назвать. Синяя башня будет Адамом, красная полоска — Евой, а эти желтые штуки — змиями. — Конечно, это тоже будет «Грехопадение». Только гораздо лучше. Гораздо осязаемее, материальнее. Я многому научился с тех пор, как начал то «Грехопадение». И я знаю, что там было не так. Оно не брало за живое. Ему не хватало материальности.
— Материальности? — сказал Носатик.
— Вот именно, — сказал я. — Что такое грехопадение? Открытие материального мира, добра и зла. Мира жесткого, как камень, и колючего, как напитанные ядом шипы. И еще одно открытие — как возделывать сад.
— С-сад?
— Да, с-сад. Удел Адама. Сад надо возделывать, и убирать камни, и сторожить розы на клумбах. Да еще глядеть в оба, чтобы ненароком не всадить себе в мягкое место шип, а колоть только пальчики, и то когда хочется, потому что сад, как сказал бы старый прощелыга Блейк, субстанция духовная. И вообще, — сказал я, сам удивляясь, откуда у меня берется красноречие для сочинения всей этой чуши, — все это происходит изо дня в день. Испокон веков. Мальчишки и девчонки влюбляются друг в друга, то есть теряют рассудок, слепнут и глохнут, и вместо двуногого животного со смешным носом, кривыми конечностями и квакающим голосом видят перед собой светящегося добротой ангела, который, подобно пустой тыкве с зажженной внутри свечкой, кажется им чудом красоты. Проходит мгновение — свечка вспыхивает, искры обжигают глаза, и они уже кажутся друг другу исчадиями ада, воплощением злобы и жестокости. И они непременно сживут друг друга со света, если не сумеют развить в себе хоть каплю воображения. Хотя бы настолько, чтобы уметь смеяться.
— В-в-в-в... — сказал Носатик.
— Воображения. Понимания. Чтобы видеть не только тыкву. Чтобы уметь читать в душе друг друга. У моей первой девицы личность была как у свиньи. Она была одноглазая, придурковатая, да и старше меня на двадцать лет. А мне было пятнадцать.
Она чистила коровники и свинарники. И никогда не мылась. Когда мы впервые поругались, я обозвал ее шлюхой и ублюдком, чем она и была. И она с полмили гналась за мной с вилами. Я решил, что никогда ей не прощу. В пятнадцать лет у меня было сильно развито чувство собственного достоинства. Но потом меня снова к ней потянуло, и я передумал. Я решил, что хоть эта женщина на вид не лучше свиньи, а несет от нее даже хуже, она все-таки не лишена известных чувств. И даже самоуважения. Поэтому я пошел и извинился. И преподнес ей украденные у матери цветы. Она расплакалась и сказала, что я ангел. Грехопадение пошло ей на пользу. У нее развилось воображение. Мы помирились, и еще не раз были счастливы, и снова дрались вилами, и снова мирились. Пока мой дядюшка, застав нас вдвоем, не отослал ее в исправительное заведение, где она быстренько отдала Богу душу. Она привыкла спать в канавах или в навозных кучах, и комфорт был для нее непереносим. Однако с нею я вкусил от древа познания, древа добра и зла, узнал рай и ад; она научила меня тому, что любовь не растет на деревьях, как яблоки в Эдеме, ее нужно взращивать самому. И чтобы взрастить любовь, надо заставить работать воображение, как и в любом другом деле. Все на свете достигается трудом, и только трудом. Проклятие Адама. Без труда человеку ничего не дается, даже любовь. Он только болтается в аду, набивая, себе шишки, обжигаясь и ранясь. Падший человек. Никто за ним не смотрит. Бедный подонок свободен, свободный и полноправный гражданин. Падение в свободу. Превосходно; я, пожалуй, так и назову картину — «Падение в свободу».
— С-свобода, — сказал Носатик, и у него буквально полезли глаза из орбит. Он не понял ни слова из того, что я говорил.
— Да, — сказал я. — Свобода. Хочешь — можешь перерезать себе глотку, хочешь — принимай этот сволочной мир и жарь яичницу на адовом огне. Хочешь — сооруди себе рай с розоволиким ангелом и всевозможными духовными радостями, включая радости любви. Хочешь — устрой себе ад с краснорожими чертями и всеми земными несчастьями, включая радости любви, и подвергайся таким пыткам, что сотни раз на дню будешь рад сгореть заживо, но никогда не решишься на это — нельзя же доставлять столь большое удовольствие своим друзьям. Вот где ад. Настоящий, земной, где ты навеки пришит к пеклу раскаленным костылем. Биться, извиваться — только людей смешить. Твое барахтанье служит главным развлечением для других свободных граждан, собратьев по пеклу.
— П-п-падение в с-с-с... — сказал Носатик, дрожа всем телом и поводя носом, словно кролик перед сомнительным капустным листом.
Я выплеснул воду из шляпы, и она снова попала мне на жилет. Все по моей неловкости. Но мне так нравилось играть в игрушки гения — то бишь предаваться буйству и безумию, с точки зрения ангелов, — что я сказал себе: «Мокни, пуп! Мерзни, брюхо! Сопи и капай, старый кран! Что мне до ваших бед? На колени, рабы! Плачьте и рыдайте. В этом замке я господин».
— Да, — сказал я. — Падение в свободу, в реальный мир, к вечным формам бытия, в материальное. Материальное как видения древних. Вот что я хочу изобразить в моей новой картине. Адам — утес грядущий. Ева — гора извергающая, с каплями пота, подобными брызгам огненной лавы. А кругом деревья, словно души, отлитые в металле. Бронза, серебро и золото. А на них листья, словно из нефрита и изумруда. Вырезанные по первозданному образцу — острые, как грани алмаза, как грани кристалла. И солнце — шар из застывшего огня, выточенный на токарном станке.
— Да-да, — сказал Носатик. — П-понимаю. Ф-фан-тазия.
— К черту фантазии, — сказал я. — Все должно быть реальным.
— И это будет выглядеть реальным?
— Плевать, как это будет выглядеть, — сказал я. — Никто никогда не видел реальность. Ее можно только чувствовать. И клянусь, сейчас я ее чувствую. Впервые за два года, впервые с тех пор, как эта проклятая картина меня заполонила. Да, чувствую — материальные формы воображения.