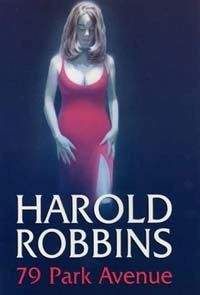Джойс Кэри - Из первых рук
— Какого черта! — выругался я. — Кажется, ты дал слово вернуться домой, бросить художества и заняться серьезным делом.
— А я, мистер Джимсон, занимался. А сейчас у меня каникулы. С прошлой недели.
— Каникулы. Это же единственная возможность поработать для себя. Как следует. Мой сын Том всегда занимался летом, в каникулы. Лучшее время для занятий: не мешают учителя.
— А я уже, мистер Джимсон. А потом я увидел вас на набережной и решил, что вы идете писать вашу картину.
— Как бы не так, — сказал я. — Попишешь тут! Даже чтобы взглянуть на нее, придется ждать, когда моя дорогая гостья уберется из дому.
И, как последний дурак, я выложил ему все о Коукерах. Есть у меня такая слабость — я не в меру болтлив с некрасивыми мальчишками. Уж очень они тихие, все им знать хочется, и задают тьму вопросов. И конечно, как только я объяснил Барбону положение дел, он так разволновался, что едва мог говорить. Он так мне сочувствовал, что я чуть не бросился в Темзу. Люблю, когда мне сочувствуют. Но все хорошо в меру. Когда начинают жалеть без удержу, меня охватывает такое чувство, будто я стою нагишом и не знаю, куда спрятаться. Я изложил ему мой план, как завладеть помещением, сняв окна и двери, и он тут же помчался за топориком и отвертками, чтобы с места в карьер приняться за дело. И мне пришлось втолковывать ему, что все не так просто, как кажется.
— Никакого насилия, — сказал я. — Все должно быть по закону. Сначала мы занимаем помещение. Потом снимаем окна и двери. Так поступают судебные исполнители. Но сначала надо завладеть помещением. Тогда, если миссис Коукер вызовет полицию, мы всегда сможем сослаться на то, что считали наши действия законными. Согласно прецеденту.
Но Носатик вошел в такой раж и стал так сильно заикаться, что я сам едва мог говорить. Я все больше накручивался и, наверно, кончил бы тем, что учинил бы какую-нибудь глупость. Но тут, где-то около пяти, появилась миссис Коукер, в шляпке, с кошелкой и зонтиком, и быстро направилась в лавку.
В ту же минуту мы с Носатиком приступили к делу. Он обрабатывал отверткой раму снаружи. Я отправился вовнутрь забрать картину. И сразу же наткнулся на Коуки в синем, как оползень, переднике. Она сидела на кончике стула и вязала ползунки.
— Привет, Коуки, — сказал я. — Ну как живешь-можешь?
— А никак. И жить не живу и мочь не могу. Вам бы поостеречься, мистер Джимсон.
— Твоя мамаша тю-тю. Ушла за покупками. Я ее только что видел.
— Верно. Но она может вернуться. Она, бывает, возвращается с полпути. Особенно в последнее время. Зачем вы писали ей эти письма?
— А почему она решила, что это я их писал? — сказал я.
Я злился. Женщины поразительно нелогичны. Сразу делают выводы.
— Так вы же писали. Не вы разве?
— Твоей мамаше лучше не спешить с такими заявлениями. Бездоказательными. Это называется клеветой.
— Ладно, только больше не пишите, — сказала Коукер. — Она от них сатанеет и всю злобу вымещает на мне. А мне и без того хватает. Когда вы впустили сюда крыс, она сломала об меня зонтик.
— Ничего, твоя мамаша еще получит свое, — сказал я. Потому что видел, как Носатик орудует отверткой с наружной стороны рамы, а Коуки его не видела.
— Я пришел изъять свою собственность.
И я стал отодвигать стулья, нагроможденные у занавески в дальнем конце комнаты.
— Если вы ищете картину, — сказала Коуки, — там ее нет.
— Где же она?
Я нырнул за стулья и рванул занавеску. Ничего. Одни доски. Я обомлел. Перехватило дыхание. Словно ударили ногой в поддыхало.
— Где же она? — сказал я. — Если хозяин посмел взять картину, он ответит но суду. И оплатит убытки. Моя картина — неоконченная работа. Даже судебный исполнитель не смеет трогать неоконченную работу.
— Вовсе не хозяин взял ее, а мамаша.
— Это кража. Что она с ней сделала?
— Разрезала на куски и залатала крышу. Неужели вы не заметили, что...
Я поднял глаза к потолку и прислушался. Так и есть — капли дождя отбивали дробь по холсту, словно по барабану.
— Вы же знаете, как здесь текло, — сказала Коуки. — Конечно, пришлось еще сверху покрыть холст смолой. Мы порядком над ним попотели.
Мне казалось, будто мне отрывают макушку, — такая меня охватила слабость. Лишиться картины! Вот так, за здорово живешь! Словно мне сказали, что разверзлась земля и поглотила мой дом и семью.
Я взглянул на Коуки. Она сидела спокойная, как ни в чем не бывало. Синий мешок с завязками у шеи. Белая деревянная плашка вместо лица. Я глотнул воздух.
— Что же, по-твоему, я два года работал над картиной, чтобы ею латали крышу?
— Зачем же? — сказала Коуки. — Только не до картины мне было. Особенно после того, как мамаша немного поговорила со мной. Захоти она распилить меня на куски, так достаточно ей немного поговорить со мной, и я сама грохнусь на колени и буду молить — скорей. Вы не слышали маменькины речи. Лучше под нож.
— Эта картина стоила несколько тысяч фунтов. У меня был на нее покупатель. Твоя мать заплатит мне пять тысяч по суду. Сволочь старая.
— Не смейте сволочить маму. Ее, чтоб вы знали, и так жизнь заездила.
— Причем тут моя картина?
— А какой прок моей матери от вашей картины? Помогли ей, что ли, картины? Дали хоть капельку того, на что она имела право? А?
— А как насчет моих прав, Коуки?
— Какие вам еще права? Вы мужчина. Только вы им недолго будете, если моя мать застанет вас здесь.
— Здорово ты переменилась, Коуки. Раньше ты ценила мои картины.
Я все еще чувствовал слабость. И чуть не плакал. Как мне жить без «Грехопадения»!
— Переменилась? — сказала Коуки. — Это и простым глазом видно.
— Я не об этом. Я о чувствах.
У меня подкашивались ноги, и я сделался сентиментальным. Я готов был пасть к ней на грудь, хотя грудь Коуки, надо полагать, была жестче консервных банок и тверже дверных косяков.
— Ах, о чувствах! — воскликнула Коуки. — У меня сейчас одно чувство — убить бы кого, изничтожить. Побывали бы в моей шкуре. Я этих красных пилюль ящик проглотила, вылакала бочку касторки, и со столов прыгала, и носилась вприпрыжку с сундуком на голове, и с лестницы падала. Все впустую. Так мне, дуре, и надо. Видно, Бог еще тогда задумал сыграть со мной штуку, когда Вилли стал подкатываться ко мне за церковью. Слишком хорошо это было, чтоб длиться долго. Да я и не жалуюсь. Только, если я ненароком попаду под автобус или тягач, не посылайте на гроб цветы. Принесите лучше мотыгу и размозжите мою дурью башку. Чтоб и кусочков не осталось. Пусть смелют меня в мясорубке на кошачий фарш, набьют им консервные банки, а на этикетке напишут: «Шлюха. Третий сорт».
— Ну-ну, Коуки. Кто и когда называл тебя шлюхой? — сказал я, потому что еще не оправился от приступа сентиментальности.
— Попробовали бы сказать вслух! Но про себя они так думают. А кто не думает, злорадствует.
— Брось, Коуки. В наших местах пополневшей талией никого не удивишь. Уверен, что сейчас на одной только Эллам-стрит не меньше чем полдюжины милых девиц находится в таком же временном затруднении.
— Что ж, по-вашему, мне от этого легче — оказаться в одной компании с грязными потаскушками?
— О тебе никто не может сказать дурное.
— Никто? Да чем мне хуже, тем им лучше. Невесть что напридумают. Даже отсюда слышно, как они судачат.
— Ну и что? Какое тебе дело до того, что десяток злых баб будет думать или говорить о тебе?
— Ах, уходите, мистер Джимсон, уходите! У меня от вас, мужчин, все внутри переворачивается. А там уж и без того тесно.
Глава 26
Тут из задней двери появился Носатик с известием, что миссис Коукер входит в переднюю. Поэтому я ретировался через боковое окно. Полминуты спустя Носатик последовал за мной. Ухо у него алело, как от скарлатинозной сыпи. Но он, по-видимому, ничего не замечал.
— Я с-снял ч-четыре рамы, — сказал он, — и спрятал их в канаве. А вы сняли картину?
— Нет, — сказал я. — Картине капут. Плакала моя картина.
И я рассказал ему, как миссис Коукер расправилась с Адамом и Евой. Мальчик был так потрясен, что я испугался, как бы его не хватил удар.
— Н-невероятно, — заикался он. — Н-не может быть.
На него свалилось настоящее горе. По-видимому, он не на шутку привязался к моей картине.
— Н-невероятно, — повторял он. — Как она посмела? С-старая гадина.
Он все больше выходил из берегов. Он на самом деле страдал. Утратил свою первую любовь. Нос у него стал красный, как свекла, и он уже не говорил, а тявкал, словно запертая в чулан собачонка.
— Эт-то п-преступление! — кричал он. — Н-неслыханное п-преступление!
Он был слишком молод, чтобы выдержать настоящее горе. Невозвратимая утрата.
Хлынул дождь. Теплая водичка, словно выжатая из грязных тряпок. И когда я снял шляпу, потому что мне натекло за воротник, с пол-литра жидкости плюхнулось мне на жилет.