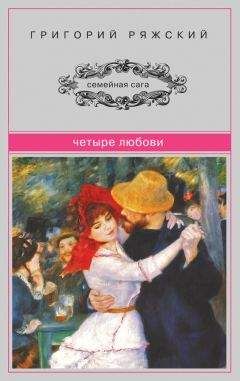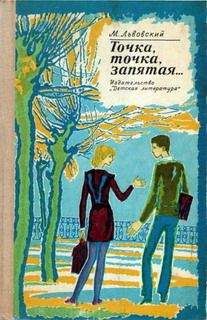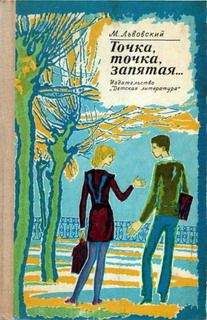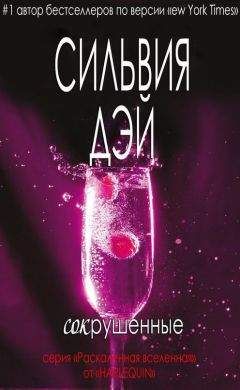Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
Несмотря на весь ужас случившегося, мне ужасно хотелось есть. Жрать. И потом ещё на протяжении ближайшей пары лет после освобождения я постоянно думал о еде. О жратве. О хавке. О шамовке. Мне не столько хотелось самой еды, сколько мне о ней принудительно думалось. Желудок был ни при чём, глаза тоже. Виной была голова, я точно это знал. Голова моя, мысли. Они порождали видения, они рождали образы, они заставляли раздумья мои бешеной, запертой в клетке белкой бесконечным колесом крутить себя вокруг всего съедобного и съестного, и не важно, сладкое было оно или горячее, сухое, мокрое, солёное или сырое.
Я снова купил три жареных пирога, капустный, рисовый и с повидлом, и съел их все, одним разом, не оставляя на потом хотя бы один. Только после этого зашёл в пассаж на проспекте, купил на остатки маркеловских рублей самую дешёвую холстинную сумку и опустил в неё мой свёрток – даже не стал смотреть, что там внутри. Оно могло быть только тем, чем было, – неудобной для транспортировки, хрупкой платиново-золотой узорчатой короной с рассыпанными по ней драгоценными камнями.
Размышляя над тем, как провести остаток дня, чтобы вернуться на Фонтанку к восьми, я уже отчётливо понимал, что хочу я этого или нет, но корону мне придётся теперь увозить с собой. Туда, куда меня отправит Маркелов. В городе мне оставить её больше некому.
Да только как её увезёшь? Круглую, хрупкую, с заострённым верхом. Ведь засечёт, как пить дать, не сможет не засечь, паразитина хитроумный.
Но я придумал. Хотя придумка моя навечно лишала меня этого редкостного коллекционного изделия, оставляя от него один лишь весовой лом и камни по отдельности. Но выбора не было. Я снова вынул свёрток из сумки и, как он был, завёрнутым в тонкую ткань, подсунул его под себя, приподняв тело над скамейкой – так, чтобы получилось боком и стоймя. И всем весом сел на корону, вдавив себя в неё.
То, что было внутри свёртка, слабо хрустнуло и сложилось в плоское. Теперь это была уже не корона, это был исходный материал, призванный снабдить меня всем необходимым для новой жизни на чужой для меня земле, на многие сотни километров отдалённой от того места, где я родился и вырос. От моего Ленинграда, в чьих скорбных пенатах лежало сейчас в ожидании милицейского наряда мёртвое тело задушенной бандитом пожилой женщины, Полины Андреевны Волынцевой, с которой мы и виделись в этой жизни всего три раза, но успевшей стать самой последней из дорогих мне людей.
«А камни, – подумал я сразу вслед за этим, – хорошо бы выворотить из золота и везти отдельно, просто ссыпав в карман, так будет надёжней, если что. Металл – отдельно, камни – отдельно. Только где это сделать и как? Не здесь же и не у себя дома. В смысле, не у Маркелова в моей квартире».
Вернулся в тот день я ровно к восьми, как мне и было велено. Впрочем, дверь на этот раз открыл не сам полковник, а Юля, дочь его, моя будущая жена. Сумка в руках у меня снова была пустой, плоская корона теперь помещалась у меня сзади, под рубахой, прижатая ремнём к спине.
– Проходи, – не особенно приветливо бросила мне она, но, как мне показалось, в отличие от вчерашнего её же слепого взгляда, на этот раз дочь полковника поглядела на меня с некоторым интересом. – Отец сказал покормить тебя и что сегодня его не будет. А завтра вы с ним уедете. Иди на кухню.
Я согласно кивнул, не очень понимая, как мне следует себя вести и какую принять для себя правильную интонацию, чтобы более-менее непринуждённо общаться с ней один на один.
И пошёл мыть руки, но для начала сбросил в кабинете свой груз, сунув его под диванную подушку. В этом мне, по крайней мере, повезло, начало не было таким уж отвратным.
На кухне меня ждала жареная картошка с сосисками. Рядом стояла открытая банка с солёными огурцами. Когда я зашёл, Юля резала хлеб, причём по лицу её видно было, что даже такая незамысловатая процедура вызывает у неё отвращение. Она дорезала булку и положила ломти на тарелку.
– Давай ешь, – и подвинула тарелку ко мне.
– Спасибо, Юля, – вежливо поблагодарил я девушку и стал накладывать картошку. – Меня зовут Григорием. Гришей, – попробовал я завязать разговор, – Григорий Гиршбаум, – тут я смутился, но быстро поправился, – то есть Лунио, извините. Григорий Лунио.
– Знаю, – отрубила она, и мне показалось, что с её стороны это прозвучало довольно безразлично. – Потом, когда поешь, посуду в раковину сложишь, а там возьмёшь чай, – она кивнула на чайник и заварку, – а сахар здесь у нас, – и подвинула сахарницу.
Больше ничего не сказала, развернулась и ушла.
Она выглядела на свои двадцать четыре и даже, возможно, чуть моложе своих лет, и если бы я не знал от её отца, что Маша её родная дочь, то самому мне такое в голову никогда бы не пришло – не уложилось бы, как ни заталкивай, просто было бы для моего понимания совершенно невозможным.
А положение само по себе было довольно глупым. Она мне поставила всё и вышла, даже не сделав попытки начать встречный разговор. Интересно, а спать со мной она тоже будет, сцепив зубы? Или не собирается этого делать в принципе?
При всём при том я чувствовал, что Юля эта мне нравится, хотя я совсем и не знал её. Было в ней нечто такое, что делает некоторых людей не похожими на остальных. Самостоятельность, быть может, или воля какая-то, наверное, другая, которая читается в жесте, в движении рук, в коротких обрывистых фразах, в отсутствии желания казаться лучше, чем есть. В наплевательском отношении к самой жизни и собственному успеху в ней, в конце концов, как и к самому себе. И это всегда чувствуют окружающие, начиная слегка подмахивать и вести себя заискивающе, не ощущая того сами. Так было и в лагере, я уже вам говорил. И так же и на свободе, тоже вам говорю. Так везде, где из человеческого семечка растёт и вызревает человек. И я, как знал про себя сам, к сожалению, не принадлежал к тем людям, которые таким вот сложноустроенным девицам, как моя будущая жена Юля, могли противопоставить встречную волю и встречный характер с первого же дня. Закалка моя внутренняя исходила от другого, она произрастала из глухой защиты и не имела никаких начал наступательного свойства.
А ещё такие вот женщины всегда вызывают желание, мужское, тоже странным образом отделённое, какое не возникает от прочих женщин. И почему-то уже в ту пору мне казалось, да и теперь я этого придерживаюсь, что само женское тело, пускай даже манящее и призывное, не оказывается главным в мужских мечтаниях про самое потаённое и самое сокровенное. Что после тела, уже принадлежащего тебе, остаётся еще нечто всё еще от тебя независимое, что следует заслужить особо, чего надлежит добиваться и добиться, и это есть результат совершенно отдельного мужского усилия и труда. И только тогда, будь он просто мужчина или будь он муж, человек этот сможет полноценно сказать – да, это женщина моя, она истинно принадлежит мне, и мы оба с этим согласны. И ещё очень долго, быть может, всю твою жизнь, такая женщина не перестаёт быть желанной и нравиться, даже если ты и познал её всю, не оставив для себя ни малейшей телесной загадки.
Так вот, я сразу почувствовал, что она из них, из таких, Юля эта маркеловская, юная мать девятилетней Маши. Но только я вот не такой, не из тех, кто когда-нибудь сумел бы рассказать ей про неё же так, как я только что сказал вам.
Впрочем, размышления мои прервала она сама, снова появившись на кухне. Встала, замерла, руки сложены на груди, глаза спокойные, выразительные и, как мне показалось, без прежней раздражительности в зрачках.
– Выпьешь со мной? – спросила.
И стоит, ждёт.
– Разумеется, – немного смутился я, но тут же нашёлся, – мне это просто необходимо сейчас сделать, потому что умер один хороший человек, и я только сегодня об этом узнал.
– А почему у тебя нет ни одной наколки? – ни с того ни с сего спросила вдруг Юля, кинув взгляд на мои руки.
– Я ненавижу всё, что нравится уркам, – ответил я и не соврал. – И никогда этого не полюблю. И если мы с вами будем жить вместе, Юля, то я хочу, чтобы вы это знали.
Мой ответ её озадачил, она уже с явным интересом посмотрела на меня и сказала:
– Значит, у нас секретов друг от друга уже нет, как я понимаю? Всё уже постелено и расставлено моим отцом? Осталось только марш сыграть и выпустить каждого из нас на волю, правильно? – Она взяла из кухонного шкапчика початую бутылку водки, налила в два стакана и один подвинула ко мне, одновременно ответив на свой вопрос сама же: – Правильно, Гриша, правильно. И вот что, ты, пожалуйста, не выкай мне больше, я этого не терплю. Мы теперь семья и будем только тыкать друг другу, пока смерть не разлучит нас. – Она усмехнулась и приподняла стакан над столом. – Вот и тост вышел, Григорий. Согласен? – и махнула свою дозу одним коротким движением.
– Да, согласен, – пробормотал я и тоже приложил край стакана к губам. Жидкость вливалась в меня так, как концентрированная кислота стала бы прожигать себе дорогу, пробиваясь через мягкие ткани. Водку я не пил с того самого дня, как спецы из СМЕРШа начали работу по моему делу. До этого я был во взводе, у славных тех ребят, которые, если помните, накормили меня солдатской кашей. Так вот они-то и влили в меня полкружки армейского спирта, чтобы быстрей отошёл от побега из концлагеря. И на этом всё. Даже с Маркеловым не успели; и пока ехали с ним на перекладных, и дома тут вчера, тоже не до того было за последними этими разговорами.