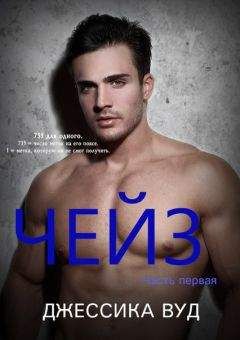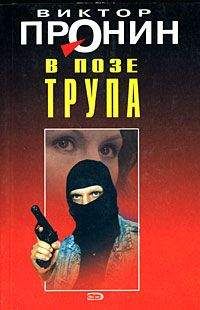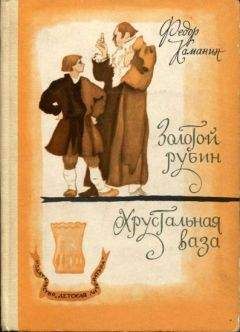Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел
— Ну, скажи мне, мальчик, что ты читал? — спросила она.
Он хитро пробрался через пустыни печатных страниц, называя своими любимыми те книги, которые, как он чувствовал, она должна одобрить. А так как он прочел все — и хорошее и дурное, — что было в городской библиотеке, список получился внушительный. Иногда она останавливала его и начинала подробнее расспрашивать про какую-нибудь книгу, и он красочно излагал содержание с такой блистательной верностью деталей, что она была полностью удовлетворена. Она была взволнована и обрадована — она сразу же увидела, как щедро сможет утолить эту сжигающую жажду знаний, житейского опыта, мудрости. А он внезапно познал радость повиновения: буйные бестолковые блуждания, охота вслепую, обманутое, отчаянное стремление теперь получали оснастку, компас, руководство. Путь в Индию, которого прежде ему никак не удавалось найти, будет теперь проложен для него по карте. Перед его уходом она дала ему толстый том в девятьсот страниц, пронизанный одушевленными изображениями любви и битв той эпохи, которая нравилась ему больше всего.
И в полночь он был глубоко погружен в судьбу человека, который убил медведицу, сжег ветряную мельницу, был грозой разбойников, — в многообразие жизни на дорогах и в харчевнях средневековья, куда его увлек мужественный и красивый Жерар, семя гения, отец Эразма. Юджину казалось, что ничего лучше «Монастыря и очага» он никогда не читал.
«Алтамонтский лицей» был самым дерзким замыслом их жизни. Леонард надеялся теперь достичь всех неосуществившихся успехов, о которых мечтал в молодости. Для него эта школа означала независимость, власть, влияние и, как он рассчитывал, благосостояние. Для нее же само преподавание уже несло в себе свою великую награду — оно было ее лирической музыкой, ее жизнью, Миром, в котором она лепила красоту из благодарного материала, владыкой ее души, дарившим ей духовную жизнь, пока он сокрушал ее тело.
В жестокий вулкан мальчишеского сознания впархивали, трепеща крылышками, недолговечные бабочки — его идолы, — чтобы после странного брачного танца превратиться в пепел. Одного за другим безжалостные годы свергали в небытие его богов и героев. Что оправдало надежды? Что выдержало бичи взросления и памяти? Почему так потускнело золото? Казалось, всю его жизнь страстная привязанность отдавалась людям — и принадлежала образам; жизнь, на которую он опирался, таяла под его тяжестью, и, поглядев, он обнаруживал, что обнимает статую; но победоносной реальностью в его полном теней сердце оставалась она — первой пробившая свет на его слепые глаза, первой приютившая скрытую капюшоном бездомную душу. Она осталась.
О, смерть в жизни, превращающая наших людей в камень! О, перемена, стирающая в ничто наших богов! Но если хоть кто-то живет и дальше под пеплом всепожирающих лет, не пробудится ли этот прах, не воскреснет ли мертвая вера, не узрим ли мы вновь бога, как некогда в час утра на горе? Кто идет с нами среди холмов?
XVII
Следующие четыре года своей жизни Юджин провел в школе Леонарда. На фоне тусклого ужаса «Диксиленда», на фоне темной дороги боли и смерти, по которой уже шло под уклон огромное тело Ганта, на фоне неизбывного одиночества и плена его собственной жизни, томивших его, словно голод, эти четыре года в школе Леонарда сверкали золотыми яблоками.
От Леонарда он получил немного — серый поход по безводным пустыням латинской прозы: сначала трудная, жесткая, бессмысленная рекогносцировка среди правил грамматики, которая бесцельно напугала его и сбила с толку, так что в течение многих лет он питал болезненную неприязнь к синтаксису и нелепое предубеждение против законов, по которым был построен язык. Затем — год, посвященный изучению мускулистой, чистой четкости Цезаря, великолепной структуры стиля, — исчерпывающая последовательность, скелетная точность, омертвляемые ежедневными дроблениями на бесформенные куски, нудным грамматическим разбором, неуклюжими штампами педантичного перевода:
«Сделав все, что было необходимо, и время года будучи благоприятным для ведения войны, Цезарь начал приводить свои легионы в боевой порядок».
Темный калейдоскоп войны в Галлии, удар римского копья, пронзающий кожаный щит, советы варваров в лесах, гордый лязг триумфа — все то, что могло бы возникнуть в рассказе великого реалиста благодаря преображающей страсти, которую великий учитель умеет вложить в свой труд, тут отсутствовало.
А вместо этого колеса тяжело и ровно катились по твердым рельсам методики и памяти. Двенадцатого марта, прошлый год — на три дня позже. Cogitata. Причастие ср. р. мн. ч., употребленное в качестве существительного. Quo употреблено вместо ut для выражения цели, так как далее следует сравнительная степень. Восемьдесят строк на завтра.
Они потратили томительное столетие — целых два года на этого скучного сухаря, Цицерона. «De Senectute», «De Amititia»,[5] Вергилия они обошли сторонкой, потому что Джон Дорси Леонард был плохим моряком и вергильевские плаванья по морям его смущали. Он ненавидел географические исследования. Он побаивался путешествий: В будущем году, сказал он. И великие имена: Овидий, владыка эльфов и гномов, вакхический флейтист, «Amores»,[6] Лукреций, полный грома волн. «Nox perpetua».[7]
— А? — протянул мистер Леонард, начиная бессмысленно смеяться. Он от подбородка до колен пестрел меловыми отпечатками пальцев. Стивен («Папаша») Рейнхарт тихонько наклонился и воткнул перо в левую ягодицу Юджина Ганта. Юджин охнул.
— Да нет, — сказал мистер Леонард, поглаживая подбородок. — Это другая латынь.
— А какая? — не отступал Том Дэвис. — Труднее, чем Цицерон?
— Ну, — неуверенно сказал мистер Леонард, — не такая. Пока еще слишком сложная для вас.
«…est perpetua una dormienda… Luna dies et nox».[8]
— А латинские стихи трудно читать? — спросил Юджин.
— Ну, — сказал мистер Леонард, покачивая головой, — нелегко. Гораций… — начал он осторожно.
— Он писал оды и эподы, — сказал Том Дэвис. — Что такое «эпод», мистер Леонард?
— Ну, — сказал задумчиво мистер Леонард, — это род поэтической формы.
— Черт! — буркнул «Папаша» Рейнхарт на ухо Юджину. — Это я знал еще до того, как заплатил за обучение.
Сочно улыбаясь и поглаживая себя ласковыми пальцами, мистер Леонард вернулся к уроку.
— Ну, а теперь… — начал он.
— Кто такой Катулл? — резко выкрикнул Юджин.
Как взметнувшееся копье в его мозгу — это имя.
— Он был поэтом, — быстро и необдуманно ответил мистер Леонард, захваченный врасплох. И раскаялся в этом.
— А какие стихи он писал? — спросил Юджин.
Ответа не последовало.
— Как Гораций?
— Не-ет, — задумчиво сказал мистер Леонард. — Не совсем как Гораций.
— А какие? — спросил Том Дэвис.
— Как кишки твоей бабушки, — залихватски шепнул «Папаша» Рейнхарт.
— Ну… он писал на злободневные темы своего времени, — непринужденно ответил мистер Леонард.
— А он писал про любовь? — спросил Юджин дрожащим голосом.
Том Дэвис удивленно повернулся к нему.
— Ух ты! — воскликнул он потом. И начал хохотать.
— Он писал про любовь! — вскричал Юджин убежденно и страстно. — Он писал про свою любовь к даме, которую звали Лесбия. Спросите мистера Леонарда, если вы мне не верите.
Жадные лица повернулись к мистеру Леонарду.
— Ну… нет… да… я этого точно не знаю, — с вызовом сказал мистер Леонард, смешавшись. — Где ты это выискал, мальчик?
— Прочел в одной книге, — ответил Юджин, тщетно вспоминая, в какой. Как взметнувшееся копье — это имя.
«…язык раздвоен, как у змея, копье взметнувшееся страсти».
«Odi et amo: quare id faciam…»[9]
— Ну, далеко не все, — сказал мистер Леонард. — Некоторые, — уступил он.
«…fortassa requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior».[10]
— А кто она была такая? — спросил Том Дэвис.
— О, в те дни был такой обычай, — небрежно ответил мистер Леонард. — Вот как Данте и Беатриче. Так поэты выражали свое уважение.
Змей зашептал. В его крови вспузырилось бешеное ликование. Лохмотья послушания, заискивающей робости, почтительного страха поясом опали вокруг него.
— Она была замужней женщиной! — сказал он громко. — Вот кем она была.
Жуткая тишина.
— Э… да… кто это тебе сказал? — растерянно спросил мистер Леонард. Замужество представилось ему нелепым и, возможно, опасным мифом. — Кто тебе это сказал, мальчик?
— Так она была замужней? — спросил Том Дэвис подчеркнуто.
— Ну… не совсем, — пробормотал мистер Леонард, потирая подбородок.
— Она была дурной женщиной, — сказал Юджин. И на пределе отчаянности добавил: — Она была потаскушка.