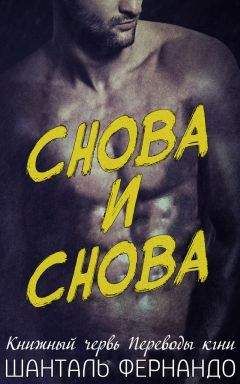Ксения Драгунская - Заблуждение велосипеда
Молодец, Иван Бурмистров. А напомни тебе теперь про эти стихи — небось удивишься.
А это что за «не в лад, невпопад»? Это я, сиротка:
Он пробыл полдня в сентябре,
Изждался, устал и промок.
Он долго стоял на мосту,
На черную воду смотрел.
Ноябрь головою качал,
В лицо ему заглянув.
Он по полю долго шел.
Он пел, а потом молчал.
О чем-то шептал апрель,
Он спал и кричал во сне:
Просил, отрицал, стонал…
Таилась в углах темнота.
В четыре утра в декабре
Он сел и открыл глаза.
Напротив светилось окно.
Он думал, что всех простит.
К чему или к кому это имело отношение, уже не вспомнить.
Вот вы и нашлись, стихи, читанные в комнате с плакатом на окне.
Листаю, надеясь найти хоть что-то еще оттуда, букву, номер телефона, закорючку, карандашную отметину. Чья это книжка? Как она попала сюда?
— Вот, это я куплю.
— Мне жаль, но то есть немножко невозможно, — с польско-сербско-американским акцентом говорит длиннозубый юноша на кассе. — То есть под заклад, человек закладывал за деньги и придет повыкупить.
— Сколько же он получил?
— Петдесят долларов.
— Я дам вам больше. Я автор. Вот, это мои стихи.
— Приятно, но то есть невозможно до следующего петка.
Самолет в четверг.
— Till Friday, see? Он обещался, что приходит у петок, наплатит и возьмет назад.
— Давно он ее заложил?
— Прошла седмица.
— А если не придет?
— Ми све его добро знамо. Всегда даем покушать. Русский. Константин.
Креативный продюсер. Пятьдесят долларов. Деньжищи.
На его мобильном сонный голос автоответчика говорил по-испански.
«Пор фавор…» Это что? «Пожалуйста»? Пожалуйста, оставьте сообщение?
Костик…
Конечно, ты лучше сдохнешь здесь под забором, чем признаешься, что ничего не получилось, не вышло. Но давай попробуем обойтись без подыхания. Давай ты приедешь к нам ко всем как бы в гости. Разве плохо? По-моему, замечательно. Мы отведем тебя на речку и в лес. В кусочек леса и на уцелевший краешек речки. Там хорошо.
Если твоя мама заартачится и не пустит тебя, то я подарю тебе дом в деревне. Любой брошенный дом — твой. Заходи и живи.
А помнишь?.. А правда же?..
«Пор фавор…» Бииип…
«Число, срочно перезвони мне по очень важному делу. Я улетаю в четверг. Жду звонка. Зыкина дура».
Оставила сообщение и загрустила, в вонючем «дели», за столиком у окошка, грея руки о бумажный стакан с плохим кофе, отвернувшись от посетителей. Ясно, что Число не перезвонит. А где он живет? Где ночует? С какими такими людьми он хотел меня познакомить? Где его искать? И в общем-то, главное — зачем?
— Are you okay?
Любимый американский вопрос!
Это вроде наших вопросов русской интеллигенции «Кто виноват?» и «Что делать?».
«С чем пирожки?» Тоже любимый русский вопрос.
Можно помирать или быть вынутым из пасти чудовища, из пламени, после землетрясения. Обязательно спросят, в порядке ли ты. А то мало ли что… Вдруг ты немножко не в порядке?
Пожилой нигер в вязаной шапочке усаживается напротив. Негр преклонных годов.
— Все в порядке.
— Ты не местная?
— Из Москвы.
— О! Учишься здесь?
— Нет.
— Работаешь?
— Приехала на день рождения папы.
— О! Твой папа живет здесь?
— Нет.
Начинается… Начинается путаница, которая всегда со мной, которую так трудно объяснить, а в детстве вообще никто не верил…
Нигер поднимает брови до самой шапочки.
— Он здесь родился. Это было давно. До революции.
— О! Революция… Зачем же твой папа уехал? Ему здесь не понравилось?
— Он был маленький. Его мама скучала по родине, еврейскому городку в Белоруссии. Они вернулись обратно, когда ему было полгода.
— Все это очень интересно. Наверное, он тебе много рассказывал?
— Ничего не рассказывал.
— Ты не дружишь со своим папой? — огорчился нигер.
— Очень дружу.
Ты, нигер, видно, просто любишь всякую путаницу и переживательные истории. На, держи.
— Он умер, когда мне было шесть.
Какое горе! Нигер начинает так сильно переживать, что мне просто стыдно. Зачем я огорчаю пожилого человека?
— I feel so sorry, — сострадает нигер, и его лицо, похожее на пемзу, морщится от сострадания ко мне, сиротке. — Наверное, ты его совсем не помнишь?
— Помню, помню.
— Ужасно, ужасно. Как же они сказали тебе об этом?..
Да никто мне ничего не говорил.
Была пятница, понимаешь, нигер. По пятницам забирают из детского сада. Меня тоже забрали и обещали, что поедем на дачу, собирать листья и жечь костер. Это здорово, поверь мне, негритос, это так хорошо, лучше этого ничего нет. Брат уже там, собирает прошлогодние листья, и мы сейчас поедем. И вот пока везли домой с «Аэропорта» на Каретный, я все ныла и хныкала и канючила про дачу и костер.
На меня шикали. Папа плохо себя чувствует, прилег, тише. Ты же большая девочка, веди себя прилично.
Большая девочка идет в комнату брата. Начало мая, несусветная жара, семьдесят второй год, светлое московское небо, ласточки и стрижи, раскрытая балконная дверь…
Вдруг затренькал второй телефонный аппарат — звонят куда-то. Мама зовет папу:
— Витенька, Витя, Витя!..
Как она громко кричит…
Зачем она так кричит? Ведь она в его комнате, рядом с ним.
Мама зовет большую девочку. Она бежит в комнату с зеркалом псише.
Увиденное не выйдет ни забыть, ни описать, так что лучше и не пытаться.
Большая девочка убегает обратно.
Сжав что есть силы кулаки, ходит кругами по маленькой комнате брата, все быстрей и быстрей.
Телефон перестает тренькать. Прибегает лифтерша тетя Шура.
— Надо грелку, грелку к ногам горячую!
— Какая теперь грелка, Шура… — не своим голосом отвечает мама.
Квартира наполняется людьми. Темнеет. Пахнет со двора бензином.
В квартире очень много народу. Но почему-то большая девочка выходит из комнаты и одна идет по коридору, в котором никого нет. А может, кто-то и был рядом? Пописать водили?
Дверь в спальню закрыта, но есть щель. Видно в щель: на кровати, покрытой покрывалом, — папа. Он синий. У него удивленное лицо.
Посинел и удивленно спит на кровати, покрытой красным покрывалом, в комнате с «псише».
А в доме все время тренькает телефон и мама бесстрастно, каким-то другим, распухшим голосом говорит:
— Рувик (Юра, Миша, Дима, Абик, Володя, Аня, Майя, Тоня, Нина, Саша), Витька умер…
Приехал с дачи брат большой девочки. И другой брат, старший сын папы, кудрявый толстый Леня.
Говорят, что вечером с большой девочкой случился форменный нервный припадок, она кричала: «Спасите меня, мне плохо!»
Качественное изменение. Превращение в сироту.
Сейчас она этого не помнит.
Вот птиц в чистом вечернем небе майской горячей Москвы помнит. Ласточки и стрижи мимо распахнутого балкона во двор, сжатые кулаки и шаги — хожу кругами по маленькой комнате.
И папино удивленное синее лицо.
Такие пироги, негритос. С котятами. Папа ушел, ничего не сказав. Подстава, одна сплошная подстава. Ничего не сказал ни про, ни про… Вот меня и тянет туда, в прошлое. Мне там интереснее. И мне нормально. Дружу с папой молча. Ничего страшного.
А тут недавно нарисовалась седая старушка в инвалидном кресле, Кейт Хемингуэй, мы ездили к ней на ферму. Заросли кукурузы, и банда играет кантри. Заговорили о семьях, о родителях. «То да се». Так вот, она просто чуть не упала, что я без папы. Так прямо и говорит:
— Да как же ты жива до сих пор, в самом-то деле? Без папы-то? Это все равно что руки нет или ноги. Калека.
И банда знай наяривает кантри.
Но калека, который не знает, что он калека, может себя вполне неплохо чувствовать. То есть иногда, конечно, ему может казаться, что что-то не так, но он вряд ли скумекает, в чем дело, пока рядом с ним не окажется какой-нибудь разъяснитель.
А, так я калека, оказывается. Ну, ясно… А я-то голову ломаю…
Кейт Хемингуэй так сказала, а она врать не станет.
Так вот, такая калека, рыжая девочка без папы, но с мамой-красавицей — обречена. Ей не выжить. Но как-то почему-то выживаешь. Все время дует ветер, и дерево, на котором собираешься повеситься, строго качает головой, и речка велит домой идти.
Ну что уж теперь грустить, а, нигер? Жизнь прекрасна!
Счастье это то, что бывает счас.
Все хорошо.
«Спокуха на лицах», — как говорили мы в детстве.
И меня ждет Округа, речка и лес, которые помнят меня и всегда узнают, обязательно поздороваются.
— I feeeeeeeeel soooooooo sooooooory… — Черная пемза или губка сморщивается страдальчески, и будучи не в силах сострадать далее, нигер взваливает на плечо большой футляр с музыкальным инструментом — геликон? валторна? фанфара? Или просто его пожитки там? — и уходит, хромая.