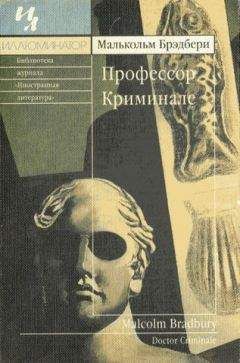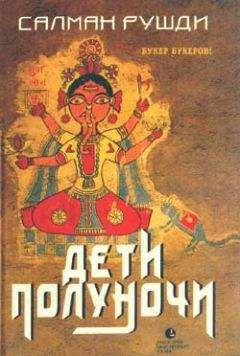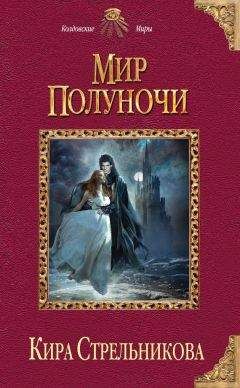Сергей Самсонов - Проводник электричества
— Ну вот, и тут она такая: у нас, конечно, пацаны все мировые, говорит, но Эдисон вообще-то лучше всех. Ты понял? Нет, ты понял? Открыл глаза на отношение к тебе?
Я, если честно, не сказать, что потрясен. И сердце не разбухло, заполнив весь объем груди. Так, дернулось, скакнуло.
— Ты, Фальконет, — говорю я, — за что купил, за то и продаешь.
— Камлайка, зуб даю — вот это и сказала. Источник надежный… Источник пожелал остаться неизвестным.
— Я сам не слышал, — говорю, — но слышал, как другие слышали, понятно. Этот стон у нас песней зовется.
Ну и чего? — сам думаю. — Ну, я. А кто еще, если не я-то, а? Что, Боклин жирный? Володька Инжуватов с изрытой фурункулами харей? Или вон, может, Ленька Безъязычный, второгодник, с ручищами-оглоблями и лошадиной мордой? Тщедушный, шепелявый Арцыбашев? Басыгин? Берман? Сопливый красноносый клоун Верченко, который объявил вчера, что хочет быть похожим на одноногого Мересьева — класс громыхнул и завизжал, затявкал… специально, что ли, он, для смеха это говорит? Голдовский и Горяйнов, очкастые энтузиасты технических наук, с пеленок чахнущие над своими пыльными транзисторами? Ну, кто еще? Подайте мне достойного соперника.
— Дай слово, — шепчет Фальконет, как бабка в церкви, — что не растреплешь никому.
— Могила, — говорю. — Услышано и похоронено.
— Мне Сонечка Рашевская вот это рассказала лично.
— А что это она к тебе с таким доверием?
— А то, что со вчерашнего у нас с ней тайн нет друг от друга никаких, — Фальконет объявляет с какой-то особенной мрачной гордостью.
— Чего? — Вот тут уж я действительно ошеломлен. — Чего хоть было-то?
— Того. Пойдем, мож, в тамбур, а? Курнем.
Встаем, выходим на площадку — резкий запах железа ударяет нам в нос, колеса под площадкой грохочут так, как будто кто-то лупит огромной кувалдой в днище. Все стекла в ледяных иголках, стены закуржавели. Я достаю из-за подпоротой подкладки пачку «Шипки», а Фальконет — обчирканный с одного бока коробок; полоска серы содрана почти, зато на оборотной стороне оставлена шершаво-плотной, «целячьей». Мы курим «Шипку», «Друг» или «Дукат», а наш с Мартышкой отец все время — ленинградский «Беломор» Урицкого и иногда — «Герцеговину Флор» московской «Явы» в красивой черной, с золотыми буквами коробке.
— Ну и чего… — дав прикурить и затянувшись сам с преувеличенной взрослой небрежностью, неспешно, с расстановкой начинает Фальконет. — Вчера в кино ходили.
— А Славка Васнецов где был?
— А сплыл, динамо ему Сонька. Ему по телефону — что болеет, там сопли у нее, температура, ну а сама со мной. Я к ней домой зашел. Ну как? Как бы за книжкой, за «Таинственным островом».
— Ты что, не читал?
— Сто лет читал, тогда, когда и ты. Но я же ей могу сказать, что не читал? Ну, прокрутил, включил свой счетчик Гейгера? Ну вот, она сказала, заходи. Ну вот, я книжку взял такой и говорю: пойдем в кино, птифур полопаем, не хочешь? Ну, она там сперва, конечно, загнусавила, ну, больше для порядка, понимаешь? Ну все, пошли, но дело-то не в этом, а в том, что было после. Гуляем, холодно, замерзли, как цуцики, оба… ну, мне-то что, а вот она действительно замерзла, на руки постоянно дышит сквозь перчатки. Ну и чего?.. ты дворницкую в третьем доме знаешь… пойдем погреемся, такой ей говорю. Там печка, там тепло, Рустам нас пустит, я ж с ним корешусь.
— Иди ты! — говорю. Поверить не могу, чтоб Сонечка Рашевская, такая вся блюдущая себя чистюля, так согласилась запросто бы обжиматься с Фальконетом на рваном дерматиновом диване с повылезшим наружу сквозь прорехи поролоновым нутром.
— Ну и чего — я такой варежки снимаю, беру ее за руки и раз к себе такой в подмышки под пальто. Она не отнимает… Сидим такие перед печкой, за руки держимся, и тут она ко мне такая вдруг как прижмется вся — я аж весь камнем изнутри покрылся. Ну я полез к ней дальше, а страшно самому, как током бьет, а Сонька вся горячая под платьем, наверное, горячей, чем печка…
— Ну, дальше что? — дышать мне тяжело становится.
— Да ничего, — он сознается. — Она в мою руку вцепилась… ну, там, под рейтузами… вот как клещами мне, не надо, говорит, и все, я дальше никуда. Короче, брат Камлайка, после этого я все дословно и узнал про отношение Становой к тебе. Мне Сонька все как на духу.
Секунду или две смотрю на Фальконета, так, будто раньше никогда его не видел. Скажу вам честно, у меня такого не было, так далеко я не продвинулся. Ну, положить там руку на плечо или впихнуть ладонь в подмышку под протестующее шиканье «дурак ненормальный, пусти!». Ну, было с Людкой Становой: ну, захожу такой на перемене в класс, чтобы достать полпачки «Шипки», которую мы с Фальконетом запрятали под подоконником, ну, за чугунной гармонью отопления, и тут такая Становая откуда ни возьмись. Я говорю: «Ты, Людка, что?» — а у нее вся морда полыхает до самых покрасневших мочек… ко мне как подбежит, как вцепится обеими руками в оба уха и ну вертеть моей башкой, как рулем. «Я, — говорит, — тебе, Камлаев, покажу». Чего она такого мне покажет? Она, конечно, с прибабахом, мягко говоря. То вдруг в упор не замечает, то вдруг на физкультуре сядет мне на спину и ржет: чего, кишка отжаться не слаба? Ну, не слаба, ведь в тебе вес бараний, Становая… Она все время будто бы танцует, вот даже когда не танцует, танцует — когда идет тебе навстречу, да, лупя портфелем по коленкам, когда садится рядом, чтобы скатать твою домашнюю работу под копирку, и это так, как будто ты летишь со снежной кручи… вообще-то, мне не нравится, когда девчонки проявляют инициативу, их дело — ждать, жеманничать и скромно потуплять глаза, пока ты к ним не подойдешь, чтобы позвать куда-нибудь с собой, но только это не про Людку, она вообще на всех бросается, как кошка на добычу: и пикнуть не успеешь, как во все стороны растрепанные перья полетят.
Дышу на стекло, протираю в снежном наждачном напылении цепляющейся варежкой дыру: белый пейзаж несется в ней с безмолвным бешенством, деревья, не давая оценить чеканку, ковань, филигрань, проскакивают мимо; порой проносятся заснеженные деревянные платформы, и на платформах попадаются фанерные буфеты, покрашенные в бледно-голубое; железная машина электрички, отстукивая ритм, грохочет полным ходом. Какой я, для чего я, — думаю. Вон с Фальконетом все понятно, он рисовальщик, это у него наследственное, как будто прямо из утробы вылез с карандашом в руке. Отец у Фальконета всю жизнь рисует жутко достоверные, мучительно смешные картинки к «Крокодилу»: козлобородые американские капиталисты и поджигатели войны в цилиндрах и долгополых сюртуках и еще более противные зеленомордые вредители с щетинистыми черными щеками и крючковатыми носами — такая мразь, что дрожь до пяток пробирает, особенно при взгляде на их руки с погано скрюченными пальцами, которые подносят спичку к бикфордову шнуру, витками уходящему под стену нашего завода.
А я? Что я? Отец, конечно, был бы рад, если бы я накинулся на медицинские энциклопедии и хирургические атласы, которых полон дом… ну да, там вправду есть на что с волнением и даже с кровяным упругим гулом посмотреть — на голых баб с эмалевыми розовыми ляжками и толстыми высокими грудями, не говоря уже о розовом ущелье, скрытом между ног, — глядишь и не поймешь, то ли восторг объял, то ли, напротив, мерзость закружила голову… но кроме путешествий по влагалищным глубинам меня там ничего особенно не привлекло… биологичка наша, Клизма, в ужасе: как может быть, чтоб у такого знаменитого отца, светила, был такой сын-дебил?..
Зато меня математичка любит: мне, знаете ли, нравится порой расшатывать математические крепости, срывать до основания, последней краткой строчки х=. Ну то есть не эти даже крепостицы, а посложнее, для абитуриентов, так, что порой даже чувствуешь свою беспомощность от своевольного, непредсказуемого поведения чисел, которые то разрастаются в похожего на исполинскую сороконожку монстра, то погружаются в иное бытие какой-нибудь минусовой дичайшей степени; мне нравится их подвергать жестоким изощренным издевательствам — четвертовать, дробить, ссылать по ту, минусовую, сторону нуля…
А с музыкальной школой что? Все мать. Я полагаю, ради матери меня бы взяли в эту школу и без слуха; два седовласых старика и тетя Ира как будто помогали мне все время лучисто-восхищенными гримасами, и выражения их физиономий казались мне до жути противоестественными, по ним я понял вмиг, что все, конец всему, оловянным солдатам и матросам в бою, щелчкам буллитов, первой тройке нападения, тяжелой клюшке из слоеной древесины… почти не помню, как держал экзамен и что там было, да, настолько я сосредоточился на предстоящем погребении заживо; два седовласых упыря и тетя Ира согласными кивками приколачивали меня к трехногому залакированному гробу — кандальником перебирать одну и ту же гамму, покуда не добьешься должной четкости туше, — и где-то на краю сознания моего, за снежными горами скучной музыкальной вечности звенели, чиркали коньки по мутно-матовому льду и кто-то без меня, не я, другой бил по резиновому кругляшу с подцепом, с места, без замаха.