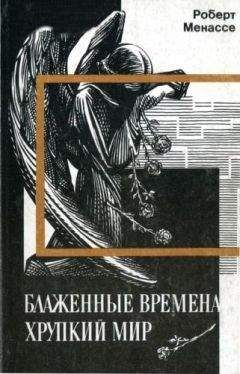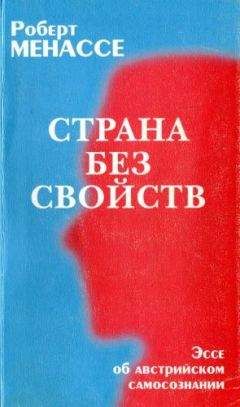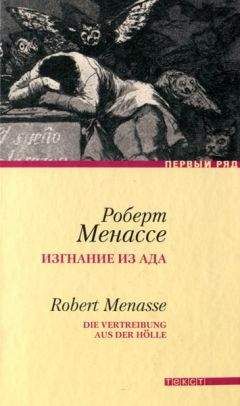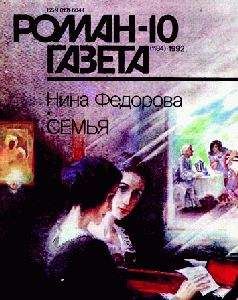Столица - Менассе Роберт
Мяч.
Однажды тренер, господин Хорах, после тренировки, точнее, схватки в грязи под проливным дождем на лугу Денцель-визе велел Алоису забрать клубный мяч домой. В ту пору еще играли кожаными мячами ручной работы, так называемыми «настоящими», стоил такой мяч дорого и отличал членов клуба от уличных мальчишек, игравших в парке круглыми мотками ветоши или дешевыми пластмассовыми мячами, которые были разве что чуть-чуть получше надувных шариков.
На сей раз тренер поручил Алоису заняться мячом, изрядно пострадавшим от грязи, дерьма и дождевой воды, то есть очистить его, втереть в мелкие трещинки и надломы кожи специальный жирный крем, а затем, когда мяч размягчится от смазки, снять лишний крем и надраить до блеска, «как пару башмаков, которые надеваешь на императорскую аудиенцию».
Алоис Эрхарт молча улыбается и думает, что вообще-то уже тогда усвоил кое-что такое, чего до поры до времени не мог понять: с каким упорством даже в будничном действует история.
Может статься, у господина Хорака случился педагогический приступ, и он решил, что от такого поручения Алоис куда больше увлечется футболом и сроднится с клубом. Может статься, господин Хорак заметил, что у Алоиса уже нет ни малейшего желания приходить в клуб, надрываться на тренировках, а во время матчей торчать на скамейке запасных, но при этом служить рекламой для отца, единственным игроком в новейших футбольных бутсах с регулируемыми шипами, какие продавались в магазине Эрхарта.
Короче говоря, Алоис забрал мяч домой, чтобы в воскресенье принести его на встречу с оттакрингской командой. Это была одна из важнейших игр сезона, ведь Оттакринг — соперник особенный: марияхильфские тогда презрительно называли оттакрингских «баварцами» и даже «германцами», по историческим причинам, которых никто в точности не помнил. Венское предместье Оттакринг якобы некогда основали выходцы из Баварии. Эта легенда каким-то образом смешалась с широко распространенной в те годы ненавистью к «самохвалам», к немцам, виноватым, разумеется, во всех бедах войны, послевоенного времени и оккупации. Глупо, но эмоции, и без того весьма бурные по причине традиционного соперничества районов Внутреннего города с внешними районами за пределами Гюртеля, второго кольца, разгорались от этого еще сильнее.
Словом, оттакрингские приехали на матч. А марияхильфские были без мяча.
Он лежал в комнате Алоиса, в темном углу возле шкафа. Алоис на матч не явился. Решив больше в клуб не ходить, он забыл про мяч, потому и не вернул его.
Можно себе представить, о чем в понедельник судачили в кафе «Кафка» на Капистрангассе. Папаша Эрхарт сумел погасить скандал, только подарив клубу новенький «настоящий» мяч плюс комплект униформ. И призвал сына к ответу.
Алоис Эрхарт сидел на брюссельском кладбище, на лавочке, откинув голову назад, закрыв глаза и улыбаясь. Отчего ему сейчас вспомнилось все это?
«В жизни, — сказал отец, — надежность — альфа и омега. Делай, что хочешь, но законом твоей жизни должно стать вот что: тебе надлежит быть абсолютно надежным в отношении двух групп людей — в отношении тех, кого ты любишь, и в отношении тех, кто тебе нужен».
«Я не люблю господина Хорака», — сказал Алоис.
Отец молча посмотрел на него.
«И он мне не нужен».
«Ты уверен? Уверен, что он никогда тебе не понадобится? И никто из товарищей по команде тебе тоже не понадобится?»
Алоис молча смотрел на отца.
«Ну? Ты понял? Повтори, что я сказал».
«Я должен быть надежным».
«В отношении кого?»
«Тех, кого люблю, и тех, кто мне нужен».
«Нет, сынок, с этим мы уже разобрались. Идем дальше. Итак, в отношении кого?»
Алоис молча смотрел на отца.
«Ты должен быть надежным всегда. По закону. В отношении тех, кого любишь, это разумеется само собой. Но и в отношении всех остальных, ведь неизвестно, кто может тебе понадобиться и кто может тебе навредить. Итак?»
«Я должен быть надежным всегда».
«Если ты что-нибудь обещаешь, то как должен поступить?»
«Сдержать обещание».
«Если ты получил задание, то как должен поступить?»
«Задание, задание… Выполнить его».
«Если от тебя чего-то ждут и ты не дал сразу же понять, что не можешь этого сделать, но и уважительной причины не делать у тебя тоже нет, как ты должен поступить?»
Алоис смотрел на отца.
«Правильно: сделать то, чего ждут! Я не хочу, чтобы в „Кафке“ мне опять пеняли, будто я не умею правильно воспитывать сына, ясно?»
«Да, папа».
Отчего все это вспомнилось Алоису Эрхарту именно сейчас, когда он, и растрогавшись, и посмеиваясь, сидел на лавочке брюссельского кладбища, смотрел на чью-то могилу и ждал?
Он сердился на себя, потому что опять прилетел в Брюссель, на вторую встречу мозгового центра «Новый договор для Европы». Сердился, когда бронировал рейс, сердился, когда собирал чемодан, сердился в такси по дороге в аэропорт, в самолете кипел от злости на себя, враждебно обошелся с приторно-сладкой администраторшей в гостинице «Атлант», потому что все это жутко действовало ему на нервы, чванливая важность чемоданов на колесиках, многозначительная спешка на совещания, ответы банальностью на банальность, шепчущая трансформация несуществующих идей в вавилонскую тарабарщину — все это казалось ему бессмысленным, совершенно безнадежным — потерянным временем. Он хотел загнать мяч в угол и забыть.
Но он дал согласие. Был в команде. Больше того, изъявил готовность выступить на этой второй встрече с программным докладом. Взял на себя такую задачу. Мяч находился у него. Вот почему он приехал. Был надежным.
Он улыбнулся.
Не мог он не быть надежным. Надежность сидела внутри его существа и пронесла его далеко. С Марияхильф вокруг света к себе самому. Разве сравнится с этим разочарование, какое он испытал на первой встрече мозгового центра? Разве сравнится с этим безобидное презрение — он, альтруист, волей-неволей признался себе: да, презрение, какое он испытывал к членам группы?
Можно ли сказать вот так, огулом? Что все они достойны презрения? Что ни говори, существуют различия. По меньшей мере градации презрения и градации его действенности. Профессор Эрхарт поделил членов мозгового центра на три класса: во-первых, тщеславные. Ну хорошо, тщеславны, по сути, все, в известном смысле и он. Надо уточнить. сугубо тщеславные. Для них мозговой центр имел огромное значение — потому что они в нем участвовали. Тем, собственно, его значимость и исчерпывалась, ибо для этих людей главное — ощутить свою значимость и показать ее другим. Эрхарт знал этих типов, знал, как у себя дома, в университетских институтах или иных учреждениях, где работали, они важно басили: «Кстати, завтра мне надо в Брюссель, коллега, вы же знаете, я состою в Advisory Group [149] председателя Еврокомиссии!» Ведь для них это жизненный эликсир — влияние на непосредственное профессиональное окружение, гордость, что они так выдвинулись и им больше нет нужды прислушиваться к другим, можно лишь благосклонно внимать. Они легко воодушевляются, а именно от собственных речей, от ораторских демонстраций чистого счастья, что им дано сказать свое слово. Оригинальных мыслей у них никогда не бывает, и они неспособны понять и признать ни одну мысль, которая не была уже сотни раз процитирована ими самими и им подобными и надежно обставлена сносками. В сущности, они безобидны. В самом деле? В таких группах, где принимаются решения и постановления, именно они составляют большинство.
Дальше идут идеалисты. Кстати, разве не все в той или иной мере идеалисты? И он тоже. Только вот идеалы у них разные. То, что для одного идеал, — например, многократно больший, чем у других, доход, поскольку он сумел добиться успеха в обществе, где правят эффективность и успех, — противоречит идеалу справедливого распределения у другого. Эти банальности Эрхарт обсуждал еще в первом семестре экономики. В сущности, идеалистами называют только тех, кто не имеет от своего идеализма никакой прибыли. Идеалисты в чистом виде. Поначалу они сообща выступают против тщеславных, как союзники, но подобные союзы очень быстро разваливаются, оттого что всегда есть какой-нибудь аспект, какая-нибудь деталь, противоречащая их беззаветным идеалам. И тогда они продолжать не могут. Беззаветность их огромна — «чтобы они могли смотреть в зеркало» и видеть себя, им необходимо иметь что-то, чем обладают только они сами. А это они сами и есть. Когда начинаются голосования и решения, они вдруг забывают про бескомпромиссность, тут их главная забота — согласием на меньшее зло предотвратить зло большее. Кстати, идеалисты в чистом виде обыкновенно не играли значительной роли в обеспечении большинства. Их было слишком мало. Как правило, для обеспечения большинства хватало сугубо тщеславных. Кстати, весьма характерно, что идеалисты, как правило, голосовали вместе с тщеславными. Знакомое, само собой разумеющееся, явно казалось им безопаснее, они считали его меньшим злом в сравнении с неизвестностью, каковую им не позволяла принять совесть. Дурацкая казуистика, подумал Эрхарт и попросил прощения у самого себя. С другой стороны, не столь уж и скверная. Он улыбнулся. Так или иначе, действует этот обман на удивление хорошо: знакомое, реальное всегда выступает в виде таблиц и статистистических данных, клеточек и стрелок, а что еще можно сделать реально, кроме как вновь чертить клеточки и стрелки; страница за страницей заполнялись разноцветными маркерами, и лишь в движении, необходимом, чтобы перекинуть такой вот лист большого напольного блокнота через раму, сквозило что-то величавое, динамичное и — опля! На новом листе новые клеточки, соединенные стрелками… Только вот ни нынешний мир, ни какой-либо антимир, ни грядущий мир так не функционировал. Однако для идеалистов достаточно, если нарисуют клеточку, впишут туда один из их идеалов, проведут от этой клеточки несколько стрелок вверх, к председателю, несколько стрелок снизу вверх к вон той клеточке, воскликнут при этом: Demand-driven, bottom-up, не top-down [150], и путаница стрелок и связующих линий уже обернется сетью, в которую идеалисты поймаются. Тут уж улыбались представители третьей группы. И улыбались сведуще, так же, как тщеславные, но считали себя очень большими умниками и под конец смеялись, хорошо смеялись, когда идеалисты лишь предотвращали самое худшее. Это — лоббисты. Кстати, здесь тоже надо проводить различия: он-то сам, профессор Алоис Эрхарт, разве не лоббист? Лоббист идеи? Лоббист определенных интересов, пусть даже таких, которые, как он полагал, полезны для общества? У этих лоббистов подобной идеи не было, они и представить себе не могли, что она может существовать. Общество, общий интерес были для них тем, кому они продавали то, что имели на продажу. Продавать и покупать — вот их мир, возможно, они даже думали, что в этом и заключается единственный общий интерес. В подобных Advisory Groups они были не представителями концернов, они были представителями фондов, учрежденных концернами. Отнюдь не стоит недооценивать, сколько всего они спонсировали, финансировали, поддерживали, не стоит даже цепляться к тому, что они-де инвестируют в культуру просто для отвода глаз, все это действительно приносило тут и там большую общественную пользу, и профессор Эрхарт не собирался этого отрицать, он был стреляный воробей не только по частя политэкономии, но и по части ловкого добывания грантов в своем университете. А вот неизменно бесило его и доводило до отчаяния (эта группа не составляла исключения) то, что в любой дискуссии они захватывали инициативу и принимались талдычить свою привычную мантру: «Нам необходимо больше роста!» Что бы ни обсуждалось, сводилось к вопросу: Как нам обеспечить больший рост? Вросшие ногти — проблема роста, как-то раз вставил Эрхарт и снискал лишь недоумение, а что европейские институты в целом вышли из доверия, есть результат недостатка роста, опасный успех правого популизма… совершенно ясно: будь больше роста, правый популизм не вырос бы. А как обеспечить больше роста? Ясное дело, посредством большей либерализации. Вместо того чтобы сообща задавать правила Союзу, каждой стране-участнице следует упразднить у себя как можно больше собственных правил. Так, правда, никогда не создать настоящий союз, зато будет обеспечен рост, а это для Союза лучше всего. В итоге уже сейчас было очевидно, что группа «Новый договор для Европы» вручит председателю Еврокомиссии документ, где будет предложено: «Мы должны озаботиться большим ростом». Председатель вежливо поблагодарит, похвалит важную работу группы — и отложит документ в сторонку (не читая, ведь читать эту бумагу вовсе незачем), чтобы в следующей программной речи или в очередном интервью сказать: «Мы должны озаботиться большим ростом!»