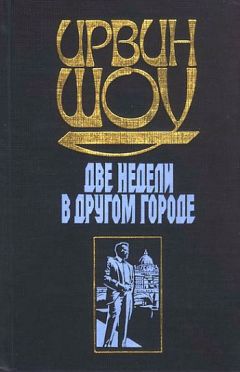Ирвин Шоу - Вечер в Византии
Он засмеялся.
— Милая Энн, ты сделала винегрет из двух великих религий.
— Я знаю, что говорю.
— Может, и знаешь, — согласился он. — Может, в твоих словах есть доля правды. А может, ты и ошибаешься. В этом году я отчасти для того и приехал в Канн, чтобы принять какое-то решение, узнать, стоит ли мне оставаться в кино.
— Ну и что? — с вызовом спросила она. — Что же ты увидел, что узнал?
Что он увидел, что узнал? А увидел он много разных фильмов, хороших и плохих, в основном плохих. Его увлек этот карнавал, безумие кино. В залах, на террасах, на пляже, на званых вечерах киноискусство или кинопроизводство — называйте это как угодно — представало перед ним за эти несколько дней в своей наготе. Тут были артисты и псевдоартисты, дельцы, аферисты, покупатели и продавцы, сплетники, проститутки, порнографы, критики, прихлебатели, герои года, неудачники года. И как квинтэссенция всего этого — фильм Бергмана и фильм Бунюэля, чистые и опустошающие.
— Ну, так что же ты узнал? — повторила свой вопрос Энн.
— Боюсь, что я на всю жизнь связан с кино — вот что я узнал. Когда я был маленьким, отец брал меня с собой в театр — бродвейский театр. Я сидел, не шевелясь, в кресле и ждал, когда погрузится во мрак зал и зажгутся огни рампы: я всегда боялся, как бы что-нибудь не случилось и не помешало этому. Но вот раздвигался занавес. В радостном волнении я крепко сжимал кулаки, заранее сострадая тем, кого увижу на сцене. Только однажды нагрубил отцу, и это произошло как раз в такой момент. Отец начал что-то говорить — не знаю что, — заставив меня тем самым выйти из состояния блаженства, и я сказал: «Пожалуйста, помолчи, папа». Кажется, он понял меня, потому что с тех пор больше не заговаривал, когда в зале гасли огни. Так вот теперь, сидя в бродвейском театре, я уже не испытываю такого чувства. Но оно появляется всякий раз, когда я покупаю билет и вхожу в полутемный кинозал. Не так уж плохо, если время от времени что-то заставляет сорокавосьмилетнего человека переживать те же чувства, какие он испытывал мальчишкой. Может, поэтому я и придумываю для кино всяческие оправдания, поэтому и пытаюсь не придавать значения его неприглядным сторонам и низкопробной продукции. Тысячи раз, посмотрев какой-нибудь скверный фильм, я утешал себя мыслью, что за одну хорошую картину можно простить сотню плохих.
Что игра стоит свеч.
Он не добавил, хотя теперь это знал — да и всегда, в сущности, знал, — что хорошие фильмы делают не для той публики, которая заполняет кинотеатры в субботу вечером. Их делают, потому что их нельзя не делать, потому что они нужны тем, кто их делает, как и вообще любое произведение искусства. Он знал, что и муки отчаяния, и то, что Энн назвала «жестокостью и непостоянством мира кино», и необходимость лавировать, обхаживать, добывать деньги, и больно ранящая критика, и несправедливость, и нервное истощение — все это неотделимо от безмерной радости, которую приносит процесс творчества. И пусть ты внес лишь скромную лепту, сыграл небольшую, второстепенную роль, все равно ты разделяешь эту радость. Теперь он понял, что сам наказывал себя, лишая в течение пяти лет этой радости.
Не доезжая до Антиба, он свернул на прибрежное шоссе.
— Я на всю жизнь связан с кино, — повторил он. — Таков диагноз. Ну, хватит обо мне. Признаюсь, я рад, что в нашей семье появился еще один взрослый человек. — Он взглянул на дочь и увидел, как она зарделась от этого комплимента. — Что ты о себе скажешь, кроме того, что уже достаточно образованна и хотела бы заботиться обо мне? Какие у тебя планы?
Она пожала плечами.
— Стараюсь понять, как выжить, став взрослой. Это, кстати, твое определение. А в остальном мне ясно одно: замуж я не собираюсь.
— Ну, что ж, — сказал он. — Кажется, начало многообещающее.
— Не смейся надо мной, — резко сказала она. — Ты всегда меня дразнишь.
— Дразнят только тех, кого любят. Но если тебе это неприятно, я не буду.
— Да, неприятно, — сказала она. — Я не настолько защищена, чтобы относиться к шуткам спокойно.
Он понял, что это упрек. Если двадцатилетняя девушка чувствует себя незащищенной, то кого в этом винить; если не отца? Пока они ехали от Ниццы до Антибского мыса; он многое узнал о своей дочери, но все это не слишком обнадеживало.
Они приближались к дому, который он снимал летом 1949 года, — дому, где была зачата Энн. Она никогда тут не бывала. «Интересно, — подумал он, — существуют ли воспоминания об утробной жизни, и если да, то заставят ли они ее оглянуться и обратить внимание на белое здание, стоящее среди зелени на холме?»
Она не оглянулась.
«Надеюсь, — подумал он, проезжая мимо дома, — что хоть один раз в жизни у нее будут три таких месяца, какие были в то лето у меня с ее матерью».
11
Они подъехали к отелю в тот момент, когда Гейл Маккиннон выходила из подъезда, так что Крейгу ничего не оставалось, как познакомить ее с дочерью.
— Добро пожаловать в Канн. — Гейл отступила на шаг и бесцеремонно оглядела Энн. «Нагловато», — подумал Крейг. — А семья-то ваша все хорошеет, — сказала она.
Не желая углубляться в разговор о том, как приближается к совершенству семья Крейгов, он сказал:
— Ну, как там Рейнолдс? Все в порядке?
— Жив, наверно, — небрежно бросила Гейл.
— Разве вы у него не были?
Она пожала плечами.
— Зачем? Если он нуждался в помощи, то нашелся кто-нибудь и без меня. До скорой встречи, — сказала она, обращаясь к Энн. — Вечером одна не ходите. Попробуйте уговорить папу пригласить нас как-нибудь поужинать. — И, едва удостоив Крейга взглядом, она пошла дальше, покачивая висевшей на плече сумкой.
— Какая странная, красивая девушка, — сказала Энн, когда они входили в отель. — Ты с ней хорошо знаком?
— Я встретил ее всего несколько дней назад, — ответил Крейг. Что правда, то правда.
— Она актриса?
— Что-то вроде журналистки. Дай мне твой паспорт. Его надо оставить у клерка.
Он зарегистрировал Энн и подошел к портье за ключом. Там его ждала телеграмма. От Констанс.
«БУДУ МАРСЕЛЕ ЗАВТРА УТРОМ ОСТАНОВЛЮСЬ ОТЕЛЕ “СПЛЕНДИД”. ПРИДУМАЙ ЧТО-НИБУДЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ. ЦЕЛУЮ К.»
— Ничего не случилось? — спросила Энн.
— Нет. — Он сунул телеграмму в карман и пошел следом за служащим, который должен был провести Энн в ее номер. Администратор не сумел освободить комнату, смежную с «люксом» Крейга, поэтому Энн поселили этажом выше. «Ну и хорошо», — подумал он, входя с ней в лифт.
Вместе с ними в кабину вошел толстячок, с которым Крейг уже встречался в лифте, и хорошенькая, совсем молоденькая девушка. Сегодня толстячок был в ярко-зеленой рубашке. Когда лифт тронулся, он сказал, видимо продолжая разговор: — В Испании это ни за что не пройдет. — Он оценивающе оглядел Энн, потом уголком рта понимающе усмехнулся Крейгу.