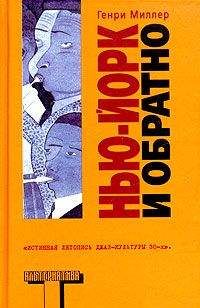Генри Миллер - Тропик Рака
И вдруг я заболел. Изысканные яства оказались не по мне. Я не понимал, что со мной происходит, но не мог подняться с постели. Я был совершенно без сил, а вместе с силами пропала и бодрость духа. Крюгеру приходилось ухаживать за мной, варить мне бульоны и все такое прочее. Это тяготило его, особенно потому, что он собирался устроить в своем ателье выставку для каких-то богатых меценатов, на которых он возлагал большие надежды. Моя постель стояла здесь же, в ателье, — другого места для нее не было.
Утром, в тот день, когда должны были явиться его возможные благодетели, Крюгер проснулся в самом отвратительном настроении. Если бы я мог стоять на ногах, он, наверное, просто дал бы мне по морде и выкинул вон. Но я лежал пластом. Он пытался выманить меня из постели, чтобы, когда появятся меценаты, запереть на кухне. Я прекрасно осознавал, что мое пребывание здесь было для него катастрофой. Какой интерес могут вызвать картины и скульптуры, когда тут же, на ваших глазах умирает человек! А Крюгер был уверен, что я умираю, да и я придерживался того же мнения. Поэтому, несмотря на чувство вины, я без всякого восторга отнесся к предложению Крюгера вызвать машину «скорой помощи» и отвезти меня в Американскую больницу. Если я умираю, то хорошо бы умереть прямо здесь, в уютном ателье, а не искать другого места. По правде говоря, мне было все равно, где я умру, лишь бы не вылезать из постели.
Услышав мои рассуждения, Крюгер встревожился. И больной-то в ателье портил ему картину, а уж покойник — и подавно. Это разрушило бы все его надежды, как бы незначительны они ни были. Конечно, он не сказал мне этого прямо, но я ясно понял по его волнению, что именно так он думает, а поняв, сделался упрямым и наотрез отказался от врача и от больницы. Отказался от всего.
В конце концов Крюгер до того разозлился, что, несмотря на мои протесты, стал меня одевать. У меня не было сил сопротивляться. Я только тихо шипел: «Ну и сволочь же ты…» Несмотря на то, что день был теплый, я дрожал как собака. Крюгер одел меня и, накинув мне на плечи пальто, побежал звонить. «Я никуда отсюда не уйду… никуда… никуда…» — повторял я, но он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, стал приводить ателье в порядок. Последние приготовления. Через несколько минут в дверь постучали. Это был Филмор. Он объявил мне, что внизу нас ждет Коллинз.
Филмор и Крюгер вдвоем взяли меня под мышки и поставили на ноги. Когда они волокли меня на лестницу к лифту, Крюгер разнюнился.
— Это для твоей же пользы, — говорил он. — Кроме того, пойми мое положение… Я бился все эти годы как рыба об лед… Ты должен подумать обо мне…
В глазах его стояли слезы.
Я чувствовал себя на редкость гнусно, но при этих словах почти улыбнулся. Крюгер был значительно старше меня. Как художник он ничего не стоил — но все же он заслужил этот, вероятно, единственный в своей бездарной жизни шанс выбиться в люди.
— Я не сержусь, — пролепетал я. — Я все понимаю…
— Ты всегда был мне симпатичен… — бубнил он. — Когда ты выздоровеешь, можешь вернуться обратно и жить здесь сколько хочешь…
— Да, я знаю… Я еще не собираюсь отдавать концы… — прошептал я с трудом.
Когда я увидел внизу Коллинза, произошло чудо, и я слегка воспрянул духом. Трудно было представить себе человека более живого, здорового, веселого и щедрого, чем он. Коллинз поднял меня на руки, точно куклу, и уложил на заднее сиденье такси — очень осторожно, что было особенно приятно после бесцеремонного обращения Крюгера.
Мы приехали в гостиницу, где остановился Коллинз, и, пока я лежал на диване в холле, Филмор и Коллинз вели долгие переговоры с хозяином. Я слышал, как Коллинз объяснял, что у меня ничего серьезного, так, легкая слабость, и что через пару дней я буду на полном ходу. Потом он сунул в руку хозяину хрустящую ассигнацию и, быстро повернувшись, подошел ко мне: «Эй, держи хвост пистолетом! Пусть не думает, что ты загибаешься». С этими словами он рывком поднял меня и, обхватив рукой за пояс, повел к лифту.
«Пусть не думает, что ты загибаешься!» Ясно, что умирать среди чужих людей — дурной тон. Человек должен умирать, окруженный семьей и в частном порядке, так сказать. Слова Коллинза подбодрили меня. Все происходящее стало напоминать мне глупую шутку. Наверху, закрыв дверь, Филмор и Коллинз раздели меня и уложили в постель. «Теперь ты, черт возьми, уже не можешь умереть! — тепло сказал Коллинз. — Ты поставишь меня в ужасное положение… И что с тобой вообще, черт побери? Не привык к хорошей жизни? Выше голову! Через пару дней будешь уписывать замечательный бифштекс! Ты думаешь, что ты болен? Ха-ха, подожди, пока подцепишь сифилис! Вот тогда тебе придется действительно призадуматься». И тут он с юмором стал рассказывать о своем путешествии по реке Янцзы, о том, как у него выпадали волосы и гнили зубы. Я совсем ослаб, но поневоле увлекся его рассказом, и мне стало легче. О себе я уже забыл. У Коллинза были стальные нервы и бесконечная жизнерадостность. Вероятно, он привирал, но он ведь делал это ради меня, и я не собирался уличать его во лжи. Я смотрел во все глаза и слушал во все уши. Я видел грязное желтое устье реки, огни Ханькоу, зажигающиеся вдали, море желтых лиц, сампаны, стрелой перелетающие через водовороты и речные пороги, окутанные серным дыханием дракона. Что за рассказ! Кули, облепившие пароход, как мухи, вылавливают из воды отбросы, вышвырнутые за борт; Том Слаттери поднимается со своего смертного ложа, чтобы взглянуть в последний раз на огни Ханькоу; красивый евразиец, лежащий в темной комнате, вводит в свои вены смертельный яд; монотонность синих одежд и желтых лиц, миллионов лиц, изъеденных голодом и болезнями; люди, которые ели крыс, собак и коренья, жевали траву прямо с земли и пожирали своих собственных детей… Я не мог представить себе Коллинза, покрытого язвами и струпьями, не мог представить, что от него шарахались, как от прокаженного. Казалось, его дух был совершенно очищен страданиями, через которые он прошел. Когда он потянулся за стаканом, лицо его смягчилось, а слова зазвучали так, точно ласкали меня. И все это время Китай витал над нами, как судьба. Гниющий Китай, распадающийся в прах, как динозавр, но сохраняющий до самого своего конца всю прелесть, очарование, таинственность и жестокость своих древних легенд.
Перестав следить за рассказом Коллинза, я мысленно перенесся назад к Четвертому июля, когда я купил свой первый пакетик бенгальских огней, а вместе с ним и длинные ломкие куски трута, который тлеет красным огнем, если на него подуть; его запах въедается в пальцы на много дней и заставляет думать о странных вещах. Четвертою июля в Америке все улицы усыпаны ярко-красными бумажками с черными и золотыми рисунками, везде — маленькие петарды для фейерверка с такими удивительными внутренностями; сколько их тут, и все связаны вместе своими тонкими плоскими короткими кишочками-струнами цвета человеческих мозгов. Целый день в воздухе стоит запах пороха и трута, и повсюду — золотая пыльца от красных оберток, прилипающая к пальцам. Вы не думаете о Китае, но он с вами — на кончиках пальцев и в ноздрях, которые он щекочет. И потом, много дней спустя, когда вы уже забыли запах фейерверка, вы внезапно просыпаетесь, потому что золотая пыльца душит вас, и в ноздрях — едкий запах горящего трута, и вы вспоминаете ярко-красные бумажки с чувством тоски по стране и народу, которых вы никогда не видели, но которые — в вашей крови, которые вошли туда каким-то таинственным образом, как чувство времени и пространства, как какое-то неуловимое, но постоянное впечатление, к которому вы возвращаетесь все чаще, по мере того, как стареете; вы стараетесь охватить это умом, но безуспешно, потому что во всем китайском — мудрость и тайна, и вы не можете коснуться их руками или понять разумом, они должны прилипнуть к вам, остаться на кончиках пальцев и медленно проникать в вены.