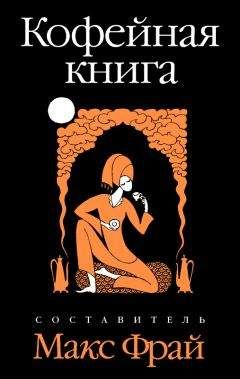Макс Фрай - Большая телега
С любовью и без алчности, вспомнил я. Надо просто смотреть на рисунок с любовью, но без алчности, как будто я уже там… Интересно, она уже успела сварить этот свой суп? Или мне придется чистить картошку?
И, торопливо пообещав себе, что и успех, и неудачу в случае чего можно будет списать на температуру, бред, галлюцинации и прочие побочные эффекты от лекарств, уставился на картинку.
μ. Tania Australis. Добой
— Смерти нет, — говорит он.
В Париже в первый же день привыкаешь к мысли, что все цивилизованное человечество объясняется исключительно по-французски, к вечеру смиряешься с тем, что лично ты больше не являешься его неотъемлемой частью, а уже на следующее утро начинаешь этим наслаждаться, в очередной раз обнаружив, что возможность не разбирать звучащую вокруг человеческую речь — ни с чем не сравнимое удовольствие.
Но незнакомец почему-то соизволил сделать свое программное заявление по-немецки, лишив меня шансов ничего не понять.
Он говорит: «Смерти нет», а глядит при этом так отчаянно, словно буквально минуту назад совершенно точно выяснил, что, напротив, еще как есть, да не одна, а добрая дюжина смертей, причем вся эта теплая компания сейчас веселится у бедняги на кухне, и он не знает, куда податься. Того гляди вцепится в меня, как утопающий в воспоминание о соломинке, знаю я такие взгляды.
Он сидит за соседним столиком, перед ним — неведомо какая по счету рюмка прозрачной огненной воды и пепельница, полная яростно раздавленных черных окурков; очередная сигарета дымится, зажатая между средним и указательным пальцами, но у меня бы язык не повернулся сказать, что незнакомец ее курит. Он сам по себе, а сигарета сама по себе — так это выглядит.
В любом случае, я не горю желанием вступать в беседу. Я не то чтобы крупный специалист в вопросах жизни и смерти. И уж точно не любитель завязывать знакомства с перебравшими посетителями питейных заведений, на каких бы языках они ни говорили. Вежливо согласиться, попрощаться, встать и уйти — это был бы наилучший вариант, но мне только что принесли кофе, арманьяк и салат, чертову гору салата, будь он неладен. Залпом, как кофе, его не проглотишь, а бежать, бросая нетронутую еду, как-то глупо. И слишком жестоко по отношению ко всем участникам драмы — салату, повару и смуглому черноглазому незнакомцу, который глядит на меня как осужденный на своего непутевого адвоката, третий день кряду забывающего составить прошение о помиловании. Если человек, с которым ты заговорил, вежливо прощается и уходит, сославшись на неотложные дела, это еще куда ни шло, вполне можно пережить, но когда от тебя бегут в панике, бросая нетронутой заказанную еду, — перебор, удар сокрушительной силы, врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации. Ну, разве что злейшему.
— Извините, — смущенно говорит незнакомец. — Не знаю, почему я вам это сказал. Само вырвалось. Просто услышал, как вы по телефону по-немецки говорили, а это мой второй родной язык. Или даже первый. В любом случае родной… Неважно. Извините.
— Все в порядке, — отвечаю, поневоле встретившись с ним взглядом, и вдруг понимаю, что незнакомец мой абсолютно трезв, просто очень взволнован.
Свеча на его столе заключена в красный стеклянный шар, а на моем — в зеленый. Смешно сказать, но именно из-за этих разноцветных шаров я прихожу в бар «Патриот» четвертый вечер кряду, как будто больше некуда податься в огромном Париже; впрочем, мне действительно некуда. Вернее, все равно куда. Такова цена свободы. Меня она совершенно устраивает.
— Моя мама немка, а папа босняк,[29] — зачем-то объясняет смуглый незнакомец и поспешно добавляет: — В таких случаях говорят «был», но я уже не уверен, что тут уместен глагол прошедшего времени. Я больше вообще ни в чем не уверен. И вот, морочу вам голову, поесть спокойно не даю, только потому, что вы говорите на языке моего детства. Извините.
На этом месте мне, согласно законам жанра, полагается спросить: «А что случилось-то?» — и тогда на меня обрушатся подробности, душераздирающие или не очень, как повезет.
Ты уверен, что действительно этого хочешь? — строго спрашиваю я себя.
Господи боже, при чем тут «уверен — не уверен». Я совершенно точно знаю, что не хочу. Но мое желание не имеет никакого значения, потому что вот именно здесь и сейчас, в одиннадцать часов вечера шестого мая, в городе Париже, в полутора кварталах от площади Республики, за третьим слева от входа в бар «Патриот» столиком, озаренном зыбким зеленым сиянием, я не могу не задать этот вопрос. Видно же, человеку позарез нужно, чтобы его спросили, а от меня не убудет. Не так уж трудно быть внимательным слушателем, когда в твоем распоряжении опустошенная только что законченной работой голова, не самое милосердное, зато любопытное сердце, свободный вечер и столько кофе с арманьяком, сколько пожелает ненасытная твоя утроба.
— А что случилось-то? — спрашиваю я, демонстративно отодвигая в сторону злополучный салат. Дескать, не стану его есть, пока не услышу хотя бы начало истории.
— Я сам не знаю, — с облегчением выдыхает он и тут же пускается в сбивчивые объяснения: — То есть я еще не понял, что именно случилось. И вообще не уверен, что оно действительно случилось. Но кажется, все-таки да, по крайней мере…
Тут он наконец умолкает, чтобы прикурить очередную черную сигарету и адресует мне беспомощный взгляд из серии «да, дорогой собеседник, я и сам понимаю, что разговор наш по моей вине зашел в тупик, поэтому, будь добр, придумай что-нибудь». Бедняге крупно повезло, что на моем месте оказался именно я; даже не знаю, как стал бы выкручиваться любой другой носитель немецкого языка, загнанный в такую ловушку. Но я-то как раз специалист.
— Обычно, — вкрадчиво говорю я, — когда происходит нечто мало-мальски выходящее за рамки банального бытового происшествия, основная проблема состоит в том, что мы не можем предоставить себе внятный отчет о случившемся. Внутренний монолог и так-то изрядная путаница, а уж если тема соответствующая — все, прощай разум. Поэтому бывает очень полезно рассказать о происшествии кому-то постороннему. Ну или записать — если есть соответствующий навык. Речь упорядочивает хаос, упрощает сложное, низводит невыразимое до банальности, и в данном случае это ее свойство — великое достоинство.
И снова передвигаю тарелку с салатом, на сей раз таким образом, чтобы освободить на поверхности стола место для собеседника, вернее для его рюмки и портсигара, а пепельница тут уже имеется, пока совершенно пустая, есть где развернуться.