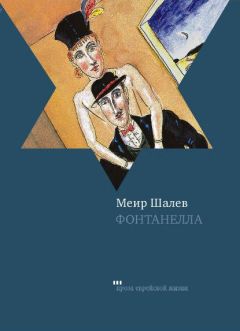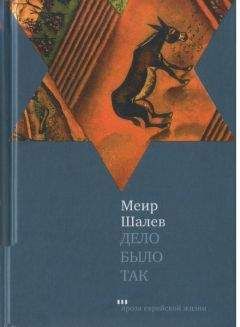Меир Шалев - Эсав
Бринкер знал, почему я мешкаю, и тотчас доставал из ящика тот кусок янтаря, который он привез из Германии. Внутри янтаря застыла огромная, древняя, миллионнолетнего возраста муха, такая же живая и изумленная, как в минуту смерти. Я подносил ее к глазам, затаив дыхание. В книге о старом Ули-Були тоже был такой кусок янтаря, и там у детей тоже захватывало дух при виде его. Свет, преломляясь в золотистых внутренних сводах, увеличивал изображение мухи, а присущая близоруким способность хорошо видеть вблизи еще резче заостряла картину.
— Как поживает мать? — спрашивал Бринкер, гладя меня по затылку.
— Все в порядке, — отвечал я.
— Передай ей привет, — говорил он. — Пусть придет забрать куриный помет для огорода, если хочет.
Моя дружба с Ихиелем тоже становилась все теснее Мои занятия с ним постепенно превратились в частные уроки по принципу «английский в обмен на буханку» Мне нравился английский язык. Сегодня я понимаю, что обнаружил в нем достоинства, со временем открывшиеся мне в женщинах, которых я любил, — ясный разум, юмор победителей и наряду с этим — щедрость и снисходительность, которыми широта и утонченность наделяют своих обладателей. До сих пор меня приводит в восторг богатство его синонимов, его покладистость в отношении мужского и женского рода и строгость в отношении времен. Лет через десять после тех занятий с Ихиелем мне довелось беседовать с его старым дядей о моей любви к английскому языку. Эдуард Абрамсон презрительно усмехнулся.
— Да, да… — проворчал он. — Язык для Франклина и Харди, но не для Екклесиаста и Десяти Заповедей. Три сотни слов для разных видов овец и плоскогубцев и всего пять слов, с которыми можно умереть подобающим образом.
Я любил эти уроки с Ихиелем, включавшие к тому же и кофе с коржиками, и его разговоры, и его дружелюбие взрослого человека. И вот так, пока мои ровесники с натугой декламировали: «Once there was a wizard, he lived in Africa, he went to China and get a lamp…» («Жил был волшебник в Африке, и как-то он отправился за лампою в Китай…»), я уже мог, под руководством Ихиеля, читать Фенимора Купера на его родном языке и доброй памяти «Простофилю Уилсона», а еще позже — и «Тигра Тома Трейси», самый любимый мой рассказ о любви из всех существующих, как я уже надоедливо намекал. Так Ихиель тоже внес свой вклад в мою замкнуть, в мое отчуждение и в конечном счете — в мой отъезд.
Холостяцкая жизнь хорошо подходила Ихиелю. Он носил твидовые пиджаки, единственные в стране джинсы и высокие американские рабочие ботинки желтого цвета. Время от времени он покупал сыр и овощи у крестьян и яйца у Джамилы, которая тоже выучила у него несколько слов по-английски и, когда Ихиель спрашивал у нее «Хау ду ю ду?», смеялась, сверкая своими большими зубами, теребила бусы на шее и повторяла за ним: «Ха-ди-ду, ха-ди-ду…»
Со временем он стал доверяться мне и однажды открыл свою заветную и тайную мечту—уже сейчас заготовить себе свои собственные последние слова.
— Я всего лишь маленький библиотекарь в маленьком поселке в маленькой стране, — грустно объяснял он мне.
Его мечтой было сочинить такую замечательную и значительную последнюю фразу, чтобы его сочли достойным войти в прославленную антологию и расположиться там в соседстве с самыми выдающимися покойниками. Он придумывал все новые и новые последние фразы, пробовал на мне и непрерывно зубрил, стараясь запомнить, как они прокатываются между нёбом и языком, чтобы не забыть их в своем предсмертном помрачении. Но затем быстро впадал в отчаяние, потому что ни одна из них не могла сравниться с замечательными образцами из его коллекции.
«На небе я буду слышать…» — с завистью цитировал он последние слова Бетховена. «Еще света…» — таял он от смертельного хрипа Гете. «Какая простота, — восклицал он, — какой скромный оптимизм у таких великих людей!»
И лишь когда он почти отчаялся, его мозг вдруг озарила столь удачная мысль, что ему стало невтерпеж и даже собственная смерть неожиданно показалась ему слишком далекой для реализации этой идеи. Он придумал засмеяться между своими последними словами, какими бы они ни были. Он издаст слабый, но явственный смешок, который выразит всю глубину его презрения к мрачному лику смерти.
В предвечерние часы мы ходили с ним смотреть на рабочих, трудившихся на холме Асфоделий. Даже и до окончания строительства можно было почувствовать, что дом дышит продуманностью и достатком. При виде мансарды наверху Ихиель заключил, что владелец дома поэт. Мертвая Хая сказала, что поэты не нуждаются в двух ванных комнатах, и решительно заявила, что это богатый англичанин строит дом для своей любовницы и незаконного сына. Кокосин из кооператива объявил, что он уже встречался с будущими жильцами и что это семья еврейских промышленников из Дрездена, которая на время до завершения дома сняла весь пансион Зальцмана в Хайфе и намерена построить в поселке фарфоровую фабрику. Но я, уже видевший девочку, ко торой предстояло здесь жить, знал, что она ничей не сын, законный или незаконный, а также нисколько не похожа на дочь поэта или фарфорозаводчика. Но я никого не поправлял.
Тем временем появились столяры, которые поставили толстые двери из дерева и стекла, и стекольщики уже застеклили окна, и стены были заштукатурены и побелены, а полы покрыты плиткой. Два садовника посадили декоративные и фруктовые деревья, посеяли цветы и траву, и зеленый грузовик привез ящики и мебель. Рабочие разгрузили поклажу, и я, к тому времени уже получивший собственные очки и назавтра же их сломавший, за что отец почтил меня оплеухой, прижал пальцами уголки глаз и отправился смотреть спектакль.
Они осторожно вносили закутанные картины, завернутые в шерсть бокалы, металлические коробки и деревянные ящики. Столы были тяжелые и блестящие. Кресла — громоздкие и тучные, и, когда их перебрасывали из рук в руки, они выглядели как пойманные на горячем почтенные матроны — нижние юбки задраны, ноги с распухшими лодыжками лягают воздух.
Назавтра вечером снова появилась легковая машина. Высокий человек, опирающаяся на него женщина и цветастая девочка вошли в свой новый дом, и всю ночь там горел свет, и чудесная веселая музыка лилась из открытых окон. Несколько лет спустя, уже юношей, я снова услышал именно эту музыку, когда сошел с корабля в нью-орлеанском порту и отправился на поиски еды и очков. Я не удивился. Уже тогда я знал, что Эмерсон был прав и что запахи, мелодии и картины прошлого подстерегают путника, куда бы он ни шел.
ГЛАВА 30
Иногда в нашем доме появляются незнакомые люди и спрашивают «господина Авраама Леви». «Мы получили письмо, — говорят они, — получили письмо и приехали».