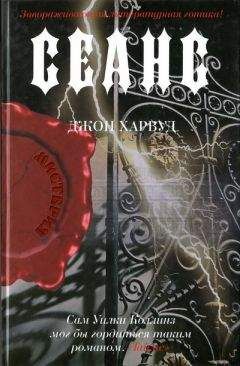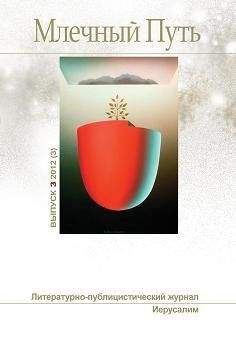Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
— Сегодня жара.
Он сразу пускает слюни от восторга. Или говорю ему, например:
— Жара сегодня.
И он закрывает глаза, он млеет. Меня волнует его волнение; может, сказать ему что-нибудь еще:
— Вот распроклятая сучья жара сегодня.
Боюсь, ему не выдержать. Я счастливый человек, у меня есть ученик, я претворился в духовном своем отпрыске. А это так удивительно и так возвышенно. Иные вещают в пустыне, иные предполагают, что вещают для будущего, коему не сбыться, таким умирать спокойнее, все-таки у них есть иллюзия. Я вещаю для настоящего, мое слово уходит в дряблую плоть моего ученика. Но мне больно видеть, что он далек от моего уровня, то есть от уровня человека; может, подтянуть его поближе к себе? О, иметь ученика, он ведь — не предтеча, он — продолжатель. Ибо, когда у нас появляется ученик, то, как правило, за счет деградации всего того, что нам стоило такого труда, а ему не стоит ни малейшего свести к карикатуре. Говоришь, например, что человек — царь творения, а он говорит, что человек не создан для республики. И цитирует тебя же. Говоришь:
— Мечта человека — быть богом.
А он говорит — что открыть счет в банке. Или говоришь, что жизнь есть сон, и он не встает с постели — который час? Луч солнца такой жизнерадостный. Наискосок спускается к полке, где политические книги, — может, там тебя поискать? Любимая. Иметь ученика, но не для того, чтобы он довольствовался фекалиями моего неумелого слова, а для того, чтобы он это слово отфильтровал до высшей чистоты. Не для того, чтобы он приобщился к тому, что мы считаем своим озарением, но для того, чтобы он приобщился к источнику озарения. Не для того, чтобы… Который сейчас час? Час сумерек. Как трудно одиночество. И тогда я смотрю на него изо всех сил, чтобы заставить его существовать. Он при мне, смирный, взгляд у него тусклый от покорности. О, господи, у меня есть ученик, я не умру в безвестности. Вырезают же люди имя свое на коре дерева, пишут его тайком от хранителя на памятнике старины, на школьном ранце, в кабине телефона-автомата, в общественной уборной — вот и у меня есть ученик. Я многим вещам его научу, но прежде придам ему человеческий облик, дабы с ним можно было общаться. И тогда я говорю ему:
— Встань, Лазарь! Тулио, встаньте и ведите себя по-человечески.
Я многим вещам его научу, о нет, научу лишь одной-единственной, которую сберег тебе в дар. Я скажу ему, что истина и все то, что мы создаем, не добро, от коего мы богатеем, не накопленный капитал. Мы, говорят, сгораем в огне — как метеоры. Мы — как игрушка, говорят; ее механизм — чудо, которое ломают в простодушном ожесточении. Я скажу ему, что мы творим для других не само доброе дело, а необходимость творить каждому свое доброе дело, чтобы одолеть неодолимое — существование старости. Я скажу ему, что единственная истина в жизни — та, к которой приходишь, изведав многие истины, годившиеся на то, чтобы сдвинуть вещи с привычных мест, — Элена помешана на перестановке мебели, в один прекрасный день прихожу домой, а столы, стулья, светильники уже образовали новый жилой мир. Обо всем я скажу ему. Последняя истина жизни, после которой уже ни одной не останется, — жить в окружении мертвых, утратив мужскую силу, которая позволила бы сотворить живое существо. Меня так раздражает, что Элена переставляет мебель. В один миг приходится начинать жизнь с начала, сотворена иная суть ее. И еще одна проблема, ограниченность количества возможных сочетаний. Я говорю:
— Элена! Разве было плохо так, как было?
Она в ответ — ей, мол, надоедает, когда все всегда на тех же местах; я скажу ему:
— Это единственная истина, Тулио.
Вот поэтому-то и старость, laudator temporis acti[27], вот по этой причине… Единственная истина в том, что никакой истины нет. А всякая истина так окрыляет. Вселяется в мышцы наших рук и ног, побуждает нас двигаться. Она пишет книги, чтобы мы выучились читать их и не остались неграмотными, поднимает шум, чтобы мы не заспались, придает нам легкость, чтобы мы не зарастали жиром, даже если безмятежны по натуре. Она и спит вместе с нами, чтобы мы не спали в одиночку, даже если рядом женщина. Она, скажу я своему ученику, трудится внутри нас, чтобы мы не плесневели в самых потаенных уголках своего существа, куда не проникают лучи солнца. А потом… Словно аэролит — в памяти что-то искрящееся, все пространство полнится этим блеском. А потом… Потом не пятятся назад, живут ровно столько, сколько нужно, чтобы пришла смерть… Единственная истина — быть в этом мире, и только. Непереносимый трупный смрад. Я ощущаю его не потому, что моя смерть близка, надеюсь, что так. И я не испытываю жалости к мертвым. Испытываю лишь то ощущение ужаса, которое остается, даже когда отведешь глаза и зажмешь себе нос, лишь то ощущение. Быть без бытия — единственная истина. Наше «я» ограничено строгими пределами, отчуждено от всего сущего, иссохло, не нужно. Если бы я не только страдал из-за этого, но хотя бы мог выразить ценность всего этого. Наше «я» иссохло, бесплодно. И вдруг — ученик; значит, мы еще живы? Вот что хочу я сказать. Но я испытываю волнение, сейчас я скажу ему единственную истину. И я ору на него так, что он содрогается до самых полых частей своего существа:
— Тулио! Ведите себя по-человечески!
Холодная масса его тела не дрогнула, глаза — слипшиеся, водянисто-покорные. А может, полюбить его таким, как есть? Ведь так трудно в одиночестве. Полюбить той любовью, которой любишь собаку, занимающую своим обществом некую часть нашего существа. Или кошку, созидающую свой мир чуть подальше. Или канарейку, мышь, у которой своего мира нет. И тут я безмолвно смотрю на него. Он по ту сторону, я здесь. В немом постижении простой истины, что оба мы — в этом мире. И тогда я забываю о нем и о себе и в пустоте забвения исчезаю в музыке, что как прежде и всегда… Музыка пространства, бесконечного горизонта, ищу ее в небе, в обуглившейся голубизне, в шумном отголоске головокружительного уличного грохота, в предсумеречной усталости. Луч солнца на книжных полках распадается на световые частицы.
VIПобуду еще немного в кафе «Атена». Вечер у меня свободный, и, может быть, Элия все-таки… вечер у меня пустой. Жизнь у меня пустая. Сейчас как раз должна начаться речь во славу чествуемого поэта, может, послушать от нечего делать. Дона Аугуста и дона Флавия, одна справа, другая слева, захлопали в ладоши, прислонившись к стенке, пара старых куриц. Очень похожи. Дона Аугуста стала позади меня, я обошел ее и стал позади нее, она снова отступила назад, но я не вхожу в курятник. Я здесь случайно, просто ищу, чем заполнить пустой вечер. И жарко. Обычно больше всего народу здесь зимою, в зимнюю пору культура как нельзя более кстати, создает естественный уют. Там, на улице, близится вечер в живой суете машин и людей, спешащих домой; я снова вижу тогдашнюю предвечернюю улицу в сегодняшнее летнее предвечерье, столь насыщенное небом и беспредельностью. Компания устроилась в малом зале, там ужасная толкотня, я остался в коридоре. Поэты, романисты, драматурги, их друзья и подруги, активные создатели славы для своих.
И вдруг все присутствующие, окаменев, превратились в разных размеров статуи, даже те, кто не прославился еще в достаточной степени; эти последние жались к тем, кто уже успел прославиться, и все вместе напоминало аллегорическую скульптурную группу. То был лес — множество белеющих гипсовых идолов: одни — очень высокие, почти касавшиеся макушкой потолка, другие — сжатые до размеров бюста, поскольку славы их хватило лишь на погрудное изваяние, третьи — всего только головы на косо обрубленной шее, из которой торчала металлическая арматура. Были тут и те, кто своею славой обязан был только изваявшей их руке, каковая всегда считалась правой, даже не будучи таковой. Иные рядились в одеяния Истории, у которой наряды собственного покроя, до самого полу длиной. На других были аллегорические наряды, так, например, чествуемый поэт вырядился Орфеем. Третьи были одеты как все люди, в брюки и пиджак. Четвертые вообще не были одеты: так, например, поэтесса Эулалия, изваянная до пояса, выставила напоказ соски. Весьма прельстительные. В горле у меня першит от пыли, разъедающей, как та, что висит в мастерской у мраморщика, и я отпиваю глоток виски.
Оратор уже стоял на столе, но некоторые статуи еще не отформировались до конца, и он подождал. Более того: уставился на нерасторопных, дабы те поскорее справились со своим делом, и лишь после того произнес:
— Дамы и господа.
Он стоял на столе, так как был до крайности мал ростом и худ, отжат до сущности. Подбородок украшала эспаньолка. Многие статуи были куда выше, чем его голос.
— Дамы и господа. Поскольку поэтическая речь артикулируется на двух уровнях в речевом потоке согласно теоретической практике метаязыка… Якобсон, Рифатерр… И метафора…
Мне плохо слышно, стараюсь вслушаться.