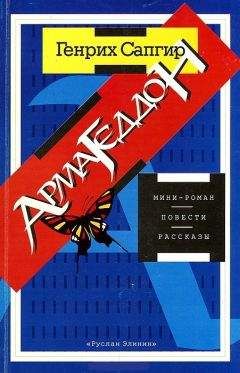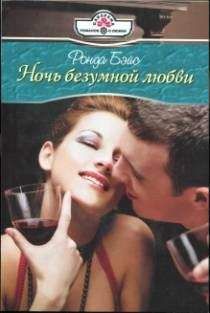Генрих Сапгир - Летящий и спящий
На шум из дальних дверей уже бежали служители — негр и девушка в элегантной серой форме.
— Аларм! Тревога! — закричал я.
Серебряный мальчик мгновенно прыгнул на постамент и застыл профилем к окну. И игрушки сами, что ли, посыпались в карманы моему внуку. Во всяком случае, когда прибежали те двое, мы медленно выходили из зала.
— Что здесь произошло? — строго закричала девушка.
— Кажется, сюда залетел голубь, — наугад ответил я, направляясь к выходу.
Негр и девушка подняли головы туда, к темной стеклянной кровле, пытаясь разглядеть и найти виновника переполоха.
Вот и говорите после этого, что войн скоро не будет, когда это в самой природе, в любом, даже серебряном, мальчишке.
Из другой эпохи
Саша увидел его, то есть ее, в кафе.
— Смотри, дед, это ящер, — прошептал он. — Динозавр.
Я не удивился. После новой американской кинокартины Париж наполнился доисторическими чудищами: в витринах магазинов, ресторанов, на рекламах и вообще повсюду. В прошлый мой приезд Париж был желто-зеленого цвета и только что не прыгал по-лягушачьи. Лягушек и сейчас можно встретить, но без прежнего восторга.
— Где? — спросил я.
— Вот, за столиком, — показал внук.
— Во-первых, это женщина, а не динозавр, — возразил я, — а во-вторых, это Дина, моя знакомая. Привет!
Дина обрадованно закивала нам. В своем умопомрачительном пиджаке в черно-белую клеточку, длинная, в сапожках из крокодиловой кожи и с такой же сумочкой, она действительно была похожа на большую ящерицу. Продолговатое увядшее, покрытое легкой сеткой морщин лицо дополняло сходство.
Я заказал себе пива, Сашке — бутылочку оранжа. Мы с Дианой оживленно беседовали, конечно, об общих знакомых, естественно, о давних знакомых. Как, кто с кем, когда, почему, куда уехал, как теперь, не вышло, бодрится, бедняга.
Сашка глядел на Дину большими глазами.
— А вы из какой эпохи? — неожиданно спросил он.
— Из какой эпохи, малыш? — изумленно поднялись нарисованные брови. — Хм, видимо, из той же, что и твой дед.
— Нет, что ты, — поспешил я, — ты прекрасно выглядишь.
— Действительно, — грустно улыбнулась Дина. — Мы им кажемся мастодонтами.
— Вы — добрый динозавр, — проницательно произнес внук.
— Динозавр? — растерянно заморгала она.
— Вот почему тебя зовут Дина! — засмеялся я.
Она помолчала немного.
— А что, может быть, вправду я теперь Дина-динозавр? Не возражай.
Она первой поднялась и вышла из кафе. Я смотрел ей вслед и думал, что впервые вижу динозавра с такими долгими красивыми лодыжками и походкой манекенщицы. Все-таки она была определенно более человеческим существом, чем те, о которых мы с ней перед тем говорили. Вот уж где когти и зубы, броня и зубцы. Ударом сильного хвоста они перешибут любую репутацию, сломают любую судьбу. Что делать, борьба за выживание в сильно похолодавшей обстановке. Бронтозавры. Те, кому удалось зацепиться, держатся изо всех сил.
Видимо, я произнес последние слова вслух, потому что внук сказал:
— А бронтозавры не живут на деревьях.
— Ну да, броненосцы, — рассеянно ответил я.
— И броненосцы не живут.
— Тогда ленивцы живут.
С этим Сашка был согласен. А я подумал: «Ленивцы вообще всюду живут: и во Франции, и в Германии, и в Америке, если на „социале“. А в Берлине у меня живет друг-толстяк, поэт, добродушный ленивец. Позавидуешь. Живет и в ус не дует, конечно, если у ленивцев есть ус».
В метро
Поздно вечером возвращался я от одного теперь прославленного русского художника, поселившегося недавно в Париже. Пустынный в эти часы Севастопольский бульвар с проносящимися машинами и одинокими слоняющимися фигурами хотелось миновать поскорей. Многие кафе были уже затемнены, а стулья внутри составлены пирамидой.
Спускаюсь в метро. Зеленый билетик с полоской затягивает щель магнитного контроля, подхватываю его, вылезающего дальше, резиновые тиски пропускают меня — я уже там.
Поезда ждать долго. На одной из скамеек лежит пьяный нечесаный клошар, подогнув босые ноги, под головой — рука, под скамейкой — пластиковая бутыль, на треть — темного вина, «клошарское», и разбитые туфли. Черной пяткой он почесывает во сне лодыжку другой ноги, блаженствует.
Прохожу следующую — пустую — скамью. На третьей меня ждет сюрприз. Под мертвым светом неона вольготно, как под солнцем юга, расположились две девушки — юные красотки. Совсем голые, тоненькая полоска купальника, смуглые, ладные, длинные, только что, видимо, из моря: на теле, на плечах, на широких волосах поблескивают капли. В Париже можно увидеть все, но это, по-моему, чересчур. Одна, улыбаясь, молча поманила меня острым изящным пальцем. Я пробормотал «не может быть», однако подошел поближе. И тут увидел: молодые женщины наполовину высунулись из глянцевого разворота журнала «Ньюсуик», который кто-то оставил раскрытым на скамейке, прислоненным к стене.
Невольно я оглянулся на спящего клошара, но тот был настоящий, слышно было по запаху. Я принюхался: даже слишком настоящий, такой немытый. Правда, под ноги он подложил себе газету. Нет, не может быть, чтобы какая-нибудь газетная публикация родила такого.
Тут, шурша, подкатил почти пустой поезд. Двери за мной задвинулись. Там, на платформе, женщины разговаривали и смеялись мне вслед: ну что ж, не хочешь — не надо. Такое ведь не часто случается.
Есть у меня смутное чувство, сожаление — упустил. Хотя теперь я допускаю, на меня навеяли все это картины моего старого приятеля — прославленного русского художника.
Угощение
Разговор, как во сне.
— Вы расисты.
— Ничего подобного, впервые слышу, не ожидал…
— Хочешь вина?
— Спасибо, что-то не хочется.
— Вот у нас в Париже — и негры, и арабы, и поляки, и даже — видел этих приплюснутых? — полинезийцы…
— Честно сказать, Ираида, они мне наших деревенских напоминают, только негатив.
— Я и говорю, вы расисты!
— Вот что я тебе скажу, ваши — все здесь у себя дома в Париже, а у нас в Москве все проездом. Почему бы не погулять, не пострелять, не пограбить? На чужбинку?
— Вы там умылись в крови. Народ вам этого не простит. Выпей, выпей, это бордо.
— Ну, хорошо, Ираидочка, за твой дом.
— Визу, наверно, сразу дали. Возьми орешки.
— Я вообще, ты же знаешь, всегда был далек от начальства…
— Тогда был далек, а теперь всюду печатают. Читали.
— Другое время наступило, и до меня дело дошло.
— Вот я и говорю, и до тебя дело дошло. Побеседовали, послали…
— Никто меня не посылал, я сам прилетел.
— Прилетел, еще могилы не остыли!
— Поверь, я сожалею, это трагедия…
— Да я вас всех насквозь вижу! Бутерброд?
— Да я…
— Вы все…
— Да кто…
— И ты… Хочешь, бифштекс приготовлю — с кровью?
И тут у него отнялся язык. Хозяйка квартиры вообще всегда была похожа на индейца — и смуглостью, и острым профилем. Но теперь она вдруг выдернула пестрое перо из диванной подушки, воткнула вкось в волосы. В руку сам влетел кухонный нож. Индеец крался к нему вдоль дивана, явно собираясь снять скальп.
— Нет, не надо, пожалуй… А как дети?
— Дети? Ничего дети, старшая скоро врачом станет, — ответил индеец, сверкая зрачками и растягивая губы в улыбке.
— Младший, Сережа, кажется…
— Сережа еще в колледже, ничего Сережа. Выпей еще.
— А когда окончит?
— Не доживешь…
(Услышал или показалось?)
— А помнишь, помнишь, Ниночка где? — Он поднялся и, стараясь не терять достоинства, начал отступать к дверям.
— Мерзавка, с ней покончено. Что ж ты ничего не попробовал?
— Спасибо. Вы как будто были лучшие подруги.
— Получила свое. Предательница.
— Вот уж не подумал…
— Вы все такие… Вас всех надо… А пирожное, пирожное? Миндальное… Съешь! — почти вопила она, наступая на него.
Человеческая маска определенно сползала. Он даже не мог себе признаться, что видит, как из-под нее лезет что-то мокрое, жуткое, сморщенное, какой-то животный комок. Рука между тем за спиной нащупала медную фигурную ручку.
— Извини, я спешу, в другой раз.
Он выскочил за дверь и уже на лестнице услышал нечеловеческий вопль: «А-а-а-а!» В дверь изнутри что-то шмякнулось. Наверно, бифштекс.
Мраморная лестница, он бежал до первого этажа, хотя был лифт. Высокое зеркало в вестибюле отражало вечнозеленые заросли. «Вот она здесь и живет, в джунглях». Парижская улица как парижская улица, все время праздник. «Можно сказать, угостила, патриотка». Какой-то бред, морок.
Кофейная чашечка и Париж
Кофейная чашечка у меня стоит на полке, старинная, из Севра — изящный фарфоровый шедевр. По краю снаружи и внутри гирлянды незабудок и розанов, на дне и на блюдце тоже розовое и голубое — веночки. Какая-то тайна в этой ясной сияющей глине, проборматывается: «Парселон, парадиз, Париж…»