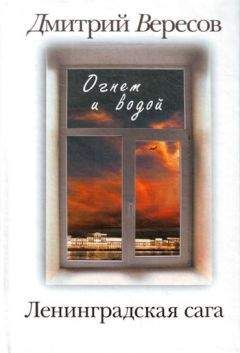Иван Клима - Час тишины
Тот подал ему руку:
— Мы еще вернемся к этому, ты хорошо сделал, что проинформировал меня.
«Хорошо сделал!» Да, Мартин знал, что хорошо сделал. Но, возвращаясь, он напрасно искал в себе то чувство близости, с которым уходил от него тогда, когда они встретились впервые. Возможно, виной этому был и импозантный кабинет, и этот огромный стол, стоявший между ними.
Он сел в поезд — словно попал в густой клубок тел; вокруг разговаривали, до него долетали обрывки фраз; когда он ехал в тот раз, его не покидало какое-то особенное, придающее силу сознание, что он не один, принадлежит к большому коллективу, стремящемуся к великой цели. Он видел во всем нечто огромное: народ начинает пробуждаться!
В ушах все еще отчетливо звучали фразы, произнесенные Фурдой. Как же он изменился, подумал Мартин о Фурде, и только сейчас до него дошла ошибочная предпосылка этого человека: народ ведь совсем не был отсталым и необразованным, он доказал это уже во время войны, народ понимает, что есть зло и что есть добро; и никто не имеет права не замечать этого и позволять себе возвышаться над ним, никто не имеет права считать, что народ чего-то не чувствует, не понимает, в чем состоит справедливость, счастье или честь; народ всегда понимал это, конечно, некоторые больше, некоторые меньше, как это заведено на свете, как это бывает и среди тех, кто думает, что только они все понимают.
Он вернулся домой и с нетерпением стал ждать, что будет. Действительно, через несколько дней Шемана отозвали из агитационной колонны, но и Мартину больше не приходилось садиться по вечерам в машину и ехать; теперь он сидел дома, изучал столетние записи о наводнениях, сличал старые карты, на которых довольно часто зияли белые пятна, ибо там, где было болото, еще не ступала нога человека.
Он делал бесчисленное количество чертежей, иногда для того, чтобы прогнать одинокое ожидание и мысли о том, что он трусливо бежал от порученных ему дел, он дожидался решения о проекте, а иногда по ночам и свою жену, которая ездила с новой агитколонной, и это ожидание возбуждало в нем какую-то неопределенную надежду, что вот-вот вернется недавнее счастливое чувство удовлетворенности — сознание уверенности, что ты живешь правильно. Но возвращалась только жена — с погасшими, усталыми глазами, обессиленная, пропахшая ветром и запахом плохого табака, возвращалась только тишина, чашка чаю и несколько ничего не значащих фраз.
— Когда же придет решение? — спросила она однажды. — Когда наконец одобрят этот твой проект?
— Вероятно, скоро.
— И сразу начнут строить?
— Ну что ты! Нужно будет сделать еще массу всяких замеров. Пока нет еще нужных карт. Некоторые я, правда, нашел, но и на них есть места, которые еще никогда не замеряли. — Он остановился. — А почему ты спрашиваешь?
— Хочу, чтобы уж наконец начали строить… Хочу что-нибудь строить, большое, с тобой… Нет, ты не должен был отказываться от агитационной работы, — говорила она, — не нужно было ездить в обком. Хотя бы ради проекта тебе не нужно было этого делать.
— Мой проект не имеет к этому никакого отношения! — Потом подумал: «А может, имеет, может, поэтому я туда и ездил?»
Через несколько дней он получил уведомление, что проект его отвергнут как недостаточно масштабный и так далее. Приняли, следовательно, другой. Ему ничего не оставалось, как посмеяться над тем, что они приняли, — над этим великолепным чудачеством, придуманным кем-то в кабинетной тиши; осуществить его, тот, другой проект— дело, конечно, совершенно невозможное, потому что кто бы за все это стал платить?
Жены еще не было, и он вышел из дому. Куда-нибудь, лишь бы выпить. Но сначала он спустился к реке, река напилась весенними дождями, и вода переливалась через плотину. Так, значит, отвергли. Ничего, ничего, повторял он про себя, он даже и не думал, что значит для него этот проект. Что — захотел памятника? Но ведь что-то надо все-таки делать! Он хотел кричать — и молчал, хотел руками преградить дорогу произволу и войне — и не знал, как это сделать. Оставался один только этот проект, а теперь? Теперь уже не оставалось ничего. А это значит — пришла та самая минута, когда пора начать петь. Уже слишком долго он не пел. Он отломил вербовую веточку, вода гудела в реке, но у него был достаточно сильный голос, чтобы перекричать воду.
Глава восьмая. ЯНКА
1
Янка сидела в маленьком привокзальном буфете, вокруг цыганки с детьми, мужики в резиновых галошах на босу ногу, смесь языков, цветастые платки, широкие черные юбки; она купила немного колбасы и бутылку минеральной воды, у стойки мотался пьяный старик с благородным лбом, в руках у него была кружка пива, и кто-то все подливал ему в эту кружку апельсиновой воды.
Старик заметил Янку и подошел к ней.
— Зачем тебе царица Савская? Не было никакой царицы, никакой Савы. А людям все равно, знай себе ищут новых кумиров.
Снова она была дома.
Поговорю по крайней мере со знакомыми. Она не радовалась дому, хотя уже и не боялась пустого одиночества, в которое возвращалась. Когда-то она бежала отсюда — так хотелось ей любых перемен. Перемены не могли произойти в ней, поэтому она во что бы то ни стало хотела найти их вне себя. Но человек не может без конца жить в постоянных переменах, поэтому рано или поздно приходится обращаться к самому себе или смириться. Она привыкла смиряться с тем, что есть, и заметила, что так поступает большинство людей. Это ее успокаивало. Так проходил день за днем, жила она маленькими радостями и скучными заботами и, как все, только приговаривала: «Такова жизнь!» Да и в самом деле, что еще можно назвать жизнью?
Впрочем, ей не дали возможности бездельничать — взяли ее референткой в бригаду; должность хотя и небольшая, но она доставляла уйму утомительных забот. Все время она линовала бумагу, заполняла графы, звонила по телефону или отсиживала на заседаниях, где всегда говорилось об одном и том же: о подготовке рефератов, торжествах и подведении итогов, всегда говорилось только о работе, короче, о том, чем и среди чего она жила, а это еще больше утомляло.
Но вместе с тем в этом было какое-то успокаивающее утомление. Не оставалось времени и энергии даже на собственное воображение, всегда рисовавшее что-нибудь постороннее, во всяком случае не то, чем жила она и чем жили остальные люди вокруг нее.
Только во сне ее посещали особенные, красочные видения: солнечные пастбища и мягкие кресла, рыжие лисицы с шелковистой шерсткой, танцовщики, которые раскачивали ее на руках, а потом вели к золотому алтарю.
Когда она просыпалась, на нее обрушивалась вся проза жизни, она вспоминала о том, какая в действительности была у нее свадьба, думала о несбывшихся надеждах и иллюзорных представлениях — ничего из этого, собственно, не осуществилось. И любовь, и вся ее жизнь теперь часто казались ей сплошным обманом, вроде церковной проповеди, которая много обещает, опьяняет музыкой органа и запахом кадила, а выйдешь из храма божия — и опять одна-одинешенька в пыли немощеной дороги, а вокруг, как и вчера, как и завтра, только гогочут гуси.
Иногда она себе говорила: сбегу, сбегу от всего и начну новую жизнь. Но ей некуда было бежать, и она не знала, как начать новую жизнь.
Кто-то положил ей руку на плечо.
— Янка, ты что тут делаешь?
— Ах, боже мой, Йожка!
Она вспомнила, что еще не привела себя в порядок после дороги и быстро пригладила волосы.
— А мужа в Чехии оставила?
— Да, приехала одна. Получила телеграмму, что маме плохо. Ты ничего об этом не знаешь?
Она вынула из сумки телеграмму и протянула ему.
Он равнодушно заглянул в телеграмму.
— Не знаю. Я теперь редко бываю дома. Что там делать?
Йожка был слегка пьян. Он очень постарел. Под глазами висели желтые мешки, черные волосы поредели и утратили блеск.
— Ты что так смотришь на меня? — И он потрогал небритое лицо. — Испохабили мне всю жизнь… А ты как?
— А меня уже взяли в канцелярию, я работаю секретарем.
— Ах ты, дама.
— Ну, таких, как я, хватает, — сказала она тихо, — но есть люди, которые мне завидуют.
Он перенес свою рюмку к ней на столик.
— Ну что это за жизнь! — сказал он. — К чему стремиться? Были у меня свои идеалы, все отняли. Почему? Ведь я же эти машины делал из ничего, из всякой рухляди! А они? Они из машины делают рухлядь. И самое плохое — лишают человека всяких стимулов. Ну ради чего человеку Жить? Ну скажи, ради чего? Ради чего, к примеру, тебе жить?
— Ты на машине?
— Да, — ухмыльнулся он, — только не на своей. Но все равно, ты — мой гость, потому что ты — моя старая любовь.
— Не шуми, — попросила она.
Он вытащил из кармана скомканную бумажку в тысячу крон и пошел платить, а она отыскала в сумке зеркальце и гребенку и немного подкрасила губы.