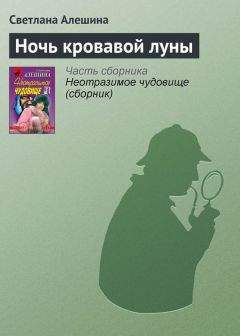Дж. Морингер - Нежный бар
— Будь счастлив, — сказал священник. — И тогда твоя мать тоже будет счастлива.
— Держу пари, что вы не единственный сын матери-одиночки.
— Я четвертый ребенок в семье, где было десять детей. Но моей матери хотелось, чтобы я стал священником, поэтому мне не понять твоих мучений.
— Вам понравится в Манхассете. Там сплошь большие католические семьи.
— Похоже на рай.
— Там есть одна улица, на которой много баров. В начале улицы стоит церковь Святой Марии, в конце — абсолютно божественный бар.
— Космология, достойная Данте. За нас? — Священник снова взболтал лед в пустом бокале. Я вынул бумажник из кармана. Он замахал на меня руками. — Я угощаю, — произнес он и направился в бар.
Я ощущал, как виски согревает меня изнутри до самых кончиков пальцев. Интересно, думал я, не подсыпал ли отец Амтрак (это упоминалось выше?) чего-нибудь в мой бокал, но потом выбросил эту мысль из головы.
— Вы знаете, — сказал я ему, когда он вернулся со следующей порцией, — для священника вы очень разумно говорите.
Он хлопнул себя по бедру и расхохотался.
— Это нужно запомнить! О, я расскажу это другим священникам на конференции. — Он сцепил пальцы за головой и посмотрел на меня. — Я думаю, мы пришли сегодня вечером к очень важному решению, Джей Ди.
— Джей Ар.
— Прежде всего ты должен улучшить оценки.
— Я думаю, что да.
— «Уже одно только стремление к недостижимому совершенству, хотя и напоминает бренчание старого пианино, придает смысл нашей жизни на этой бессмысленной звезде». Логан Пирсал Смит.
— Кто?
— Очень мудрый человек. Эссеист. Книголюб. Родился на несколько эпох раньше тебя.
— Вы столько знаете о книгах, отец.
— В детстве я провел много времени в одиночестве.
— Я думал, вы из большой семьи.
— Одиночество не имеет никакого отношения к тому, сколько людей вокруг тебя… Что я там хотел сказать про наше второе решение? Ах да! Ты станешь писателем. А я с удовольствием буду искать твои статьи в газетах. Ты будешь писать о реальных людях и о том, чем они занимаются на этой бессмысленной звезде.
— Я не знаю. Иногда я пытаюсь сказать то, о чем думаю, а получается так, будто я съел словарь, а потом сходил в туалет и вынул страницы из унитаза. Извините.
— Можно тебе кое-что сказать? Ты знаешь, зачем Бог создал писателей? Потому что Он любит хорошие истории. И Ему наплевать на слова. Слова — это занавес, который мы вешаем между ним и нашим истинным «я». Постарайся не думать о словах. Не старайся составить идеальное предложение. Его не существует. Писательство — это интуиция. Каждое предложение — интеллектуальная догадка, как для тебя, так и для читателя. Подумай об этом в следующий раз, когда будешь вставлять бумагу в свою печатную машинку.
Я вынул йельскую тетрадку из рюкзака.
— Вы не возражаете, если я это запишу, отец? Я стараюсь записывать то, что говорят мне умные люди.
Он посмотрел на мою тетрадку, которая была заполнена на три четверти.
— Похоже, тебе попадалось много умных людей.
— Это в основном то, что я услышал в «Пабликанах». Так называется бар, где работает мой дядя.
— Это верно — то, что ты сказал о барменах и священниках. — Он посмотрел в окно. — У нас с барменами две общие черты: мы тоже слушаем исповеди и тоже подаем вино. В Библии достаточно много говорится о пабликанах, хотя во времена Иисуса это слово имело другое значение. Пабликаны и грешники — так там сказано, мне кажется. Это были синонимы.
— Меня «Пабликаны» практически вырастили. Мой дядя и его друзья из бара присматривали за мной, когда мамы не было рядом.
— А где твой отец?
Я листал страницы своей тетрадки и ничего не отвечал.
— Ну что ж, — сказал священник. — Ну что ж. Тебе повезло, что в твоей жизни было столько мужчин.
— Да, отец, мне повезло.
— Нужно участие очень многих людей, чтобы воспитать одного хорошего человека. В следующий раз, когда будешь на Манхэттене и увидишь, как строится один из этих огромных небоскребов, обрати внимание на то, как много людей занято в строительстве. Чтобы воспитать сильного мужчину, нужно столько же людей, сколько для строительства высотного дома.
25
СИНАТРА
Вдохновение, которое я почерпнул из разговора с отцом Амтраком, выветрилось так же быстро, как и виски. Моя жизнь зимой 1984 года дала крен. Я прекратил заниматься, перестал ходить на лекции. Но опаснее всего было то, что я перестал беспокоиться. Каждое утро, растянувшись на подоконнике, я читал романы, курил сигареты и думал о Сидни, а когда наступали выходные, вставал, надевал пальто, садился на поезд до Нью-Йорка и отправлялся в «Пабликаны», где все два дня проводил в мужской компании, и возвращался в Йель в воскресенье. Мужчины редко спрашивали меня, почему я так много времени провожу дома и постоянно околачиваюсь в «Пабликанах». Когда мне задавали вопрос, как мои дела, я бормотал что-то про Сидни, но так и не признался, что нарываюсь на неприятности и что исключение из университета теперь более чем вероятно. Меня наверняка исключат. Я не знал, как они отреагируют на это, и не хотел знать. У меня было опасение, что они обрадуются. Также я опасался, что и сам стану гордиться тем, как испортил собственную жизнь. Впервые я заметил в себе склонность к саморазрушению, и это подозрение усилилось, когда я прочел биографию Ф. Скотта Фицджеральда и ревностно выделил абзацы, где говорилось о том, как Фицджеральду сначала дали академическую отсрочку в Принстоне, а потом он бросил учебу. Я поймал себя на мысли, что отчисление из университета необходимо, чтобы стать писателем.
В первый теплый мартовский день я сидел на карнизе окна своей спальни на втором этаже. Воздух был мягким, студенты надели рубашки с короткими рукавами. Они казались веселыми и оживленными. Мне тоже хотелось идти с ними на лекции и семинары, но я не мог. Яма, которую я сам себе вырыл, была слишком глубока. «Интересно, — думал я, — что будет, если я просто упаду с карниза? Вдруг я умру, сломав ключицу, и это станет сенсацией?» Это был не порыв к самоубийству, а скорее мрачная фантазия, но я осознал это как новый тревожный поворот моих мыслей.
Потом я увидел Сидни. Она шла по Элм-стрит в мою сторону. На ней был белый свитер и короткая замшевая юбка, на голове берет. Группа парней на тротуаре тоже ее заметила. Они стали толкать друг друга в бок и ухмыляться.
— Посмотрите-ка туда, — пробормотал один из них.
— Черт, — сказал другой.
Один из парней вытирал яблоко о рубашку. Когда Сидни приблизилась к ним, он замер. Его губы округлились, образовав букву «о». Парень протянул яблоко Сидни, и та взяла его, вытянув руку, не замедляя шага. Она напомнила мне мужчин из бара, которые входили в океан, не останавливаясь. Надкусив яблоко, Сидни шла дальше, не оборачиваясь, как будто не было ничего необычного в том, что незнакомцы отдавали ей дань, когда она проходила мимо. В голове у меня прозвучали слова дяди Чарли, которые он сказал в ту ночь, когда впервые увидел Сидни: «Ты попал по-крупному, мой друг».
Через несколько дней самый главный декан, декан деканов, вызвал меня к себе в кабинет. Мои профессора, многие из которых, как он выразился, чувствовали, что я «не уделяю им внимания», передали ему дело Джона Джозефа Морингера Младшего. Декан был «встревожен», услышав о моей плохой посещаемости, и «расстроен» моей ухудшающейся успеваемостью. Он взмахнул рукой над своим столом. Если «дела» не поправятся, сказал он, у него не останется другого выхода, кроме как позвонить моим «родителям» и обсудить с ними мое отчисление.
— Джон, — поинтересовался он, глядя на мое официальное имя в табеле с оценками, — у тебя что-то случилось? Может быть, ты хочешь со мной чем-то поделиться?
Мне хотелось поделиться с ним всем, начиная с профессора Люцифера и заканчивая Сидни. Декан казался таким добрым в своих круглых очках без оправы, с заметными морщинками у глаз и проседью на висках. Он был похож на Франклина Делано Рузвельта, и мне хотелось, чтобы он заверил меня, что мне нечего бояться. В отличие от Рузвельта, который держал сигареты в портсигаре, декан сжимал в зубах черную трубку, от которой исходили ароматные пары — коньяк, кофе, ваниль, древесный дым, — дистиллированная сущность отцовской заботы. Веревочка синего дыма из его трубки на секунду ввела меня в заблуждение, и я представил, что мы с деканом Франклином Рузвельтом наслаждаемся беседой у костра. Потом я вспомнил, что мы не отец и сын, а декан и студент и что мы не ведем задушевную беседу, а сидим в тесном кабинете на верхнем этаже учебного здания и он собирается меня отчислить.
— Все очень сложно, — промямлил я.
Я не мог говорить с таким изысканным мужчиной о безумии и похоти. Я не мог признаться декану Франклину Рузвельту в том, что меня преследуют картины близости Сидни с другими мужчинами. Видите ли, декан, я не могу сконцентрироваться на Канте, потому что постоянно представляю, как один из студентов последнего курса ласкает мою бывшую девушку, а она в это время сидит на нем верхом и ее светлые волосы рассыпаются по его… Нет. Этого декана возбуждал один только Кант. Я взглянул на шкафы, заставленные книгами от пола до потолка. Он не поймет, почему я не нахожу всего, что жажду, в книгах. Я и сам этого не понимал. Он потеряет ко мне всякую жалость, а если я не мог заставить его себя уважать, то, по крайней мере, мог довольствоваться его жалостью. Я сидел и слушал, как тикает секундная стрелка на часах, стоявших на каминной полке у меня за спиной. Смотрел куда угодно, только не декану в глаза. Я хотел, чтобы первым молчание нарушил он.