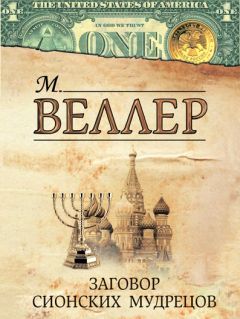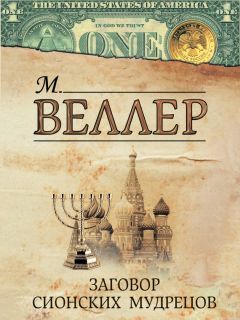Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
Они проехали мимо дома, где когда-то встретились мама и папа — на «Новогоднем балу», как сказала мама.
— Он был там самым красивым мужчиной, а я как раз гостила у твоей кузины Мэри.
Кузина Мэри была старой, и у нее постоянно слезились глаза под очками. От нее уже почти ничего не осталось, но она все равно всегда устраивала «Новогодний бал».
Алабама не могла представить отца танцующим.
Когда она в конце концов увидела его в гробу, у него было совсем юное и такое красивое, такое веселое лицо, что Алабама сразу подумала о том давнем «Новогоднем бале».
«Лишь смерть придает истинную изысканность», — отметила она мысленно. Она боялась смотреть на него, боялась увидеть что-то незнакомое и ужасное на усохшем мертвом лице. Оказалось, бояться было нечего — скульптурная, застывшая красота.
В почти пустом кабинете не было никаких бумаг, да и в шкатулке со страховками тоже ничего не нашлось, кроме крошечного старомодного кошелька с тремя монетками в пять центов, завернутыми в старинную газету.
— Наверно, это были первые деньги, которые он заработал.
— Его мать платила ему за то, что он ухаживал за палисадником.
В его вещах и за книгами тоже ничего не было спрятано.
— Наверно, он забыл, — сказала Алабама, — оставить нам письмо.
От Штата прислали венок, и от Суда тоже был венок. Алабама очень гордилась своим отцом.
Бедняжка мисс Милли! На черную соломенную шляпку, купленную в прошлом году, она приколола черную траурную вуаль. В этой шляпке она собиралась бродить с Судьей по горам.
Джоанна кричала, что не надо ничего черного.
— Я не могу, — сказала она.
И они не надели черных платьев.
На похоронах не звучала музыка. Судья не любил песен, разве что немелодичную «Песенку о старике Граймзе»[154], которую пел детям. На похоронах читали гимн «Веди, Благостный свет».
Судья упокоился на холме под пеканами и дубом. Напротив его могилы виднелся купол местного Капитолия, закрывавшего заходящее солнце. Цветы завяли, и дети посадили жасмин и гиацинты. На старом кладбище царил покой. Здесь росли и луговые цветы, и кусты роз, да таких старых, что цветы с годами потеряли свои краски. Индийская сирень и ливанские кедры простирали свои ветки над могильными плитами. Ржавые кресты конфедератов утопали в клематисе и пылающей пурпуром траве. Переплетенные нарциссы и белые цветы заполонили размытые берега, и ивы карабкались вверх по рушащейся крутизне. На могиле Судьи можно было прочитать:
ОСТИН БЕГГС
апрель 1857 года — ноябрь 1931 года
Что сказал отец? Оставшись одна на холме, Алабама устремила взгляд за серый горизонт, пытаясь вновь услышать бесстрастный размеренный голос. Она не могла припомнить, чтобы он вообще что-нибудь говорил. Последние его высказывания были:
— Нам не по карману моя болезнь. — А когда мыслями он был уже далеко: — Что ж, сынок, я тоже никогда не мог заработать денег.
Еще он сказал, что Бонни красива, как целых две маленькие птички, но что он говорил ей самой, когда она была маленькой? Алабама не могла вспомнить. И не видела на сером небе ничего, кроме туч, предвещавших холодный дождь.
Один раз он сказал: «Если ты хочешь выбирать, значит, ты возомнила себя богиней». Это когда она захотела жить по-своему. Нелегко быть богиней далеко от Олимпа.
Алабама убежала, едва на нее упали первые злые капли дождя.
— Мы, конечно же, сами виноваты в том, — сказала она, — что втайне подражали кому-то. Мой отец завещал мне сплошные сомнения.
Сильно запыхавшись, Алабама завела автомобиль и поехала вниз по скользкой дороге из красной глины. Ей было так одиноко без отца.
— Любой скажет, во что нужно верить, только попроси, — сказала она Дэвиду, — но мало кто предложит что-то большее, чем выбрала ты сама, — только бы не меньшее. Очень трудно найти человека, который берет на себя ответственность большую, чем его просят.
— Очень просто быть любимым — и очень трудно любить самому, — отозвался Дэвид.
Дикси приехала через месяц.
— Теперь у меня много места, если кто-то захочет пожить со мной, — печально проговорила Милли.
Дочери проводили с матерью много времени, стараясь отвлечь ее от грустных мыслей.
— Алабама, пожалуйста, забери себе красную герань, — настоятельно просила мать. — Здесь ей больше некому радоваться.
Джоанна взяла старый письменный стол, упаковала его и увезла.
— Пригляди, чтобы не чинили угол, попорченный снарядом янки, который пробил крышу в доме моего отца, — от этого стол станет только хуже.
Дикси попросила серебряную чашу для пунша и отослала ее в Нью-Йорк, в свой дом.
— Постарайся не помять ее, — сказала Милли. — Это ручная работа. Ее сделали из серебряных долларов, которые сберегли рабы, чтобы отдать их твоему дедушке после своего освобождения. Дети, берите, что хотите.
Алабама хотела получить портреты, Дикси взяла старую кровать, на которой родились она сама и ее мать, и сын Дикси.
Мисс Милли искала утешения в прошлом.
— Дом моего отца был разделен коридорами на четыре части, — повторяла она. — За двойными окнами гостиной росла сирень, а ближе к реке был яблоневый сад. Когда папа умер, я уводила вас, детей, в сад, подальше от печального дома. Моя мама была очень ласковой, но потом она изменилась — навсегда.
— Мне нравится этот дагерротип, — сказала Алабама. — Кто это?
— Моя мама и маленькая сестренка. Она умерла в тюрьме федералов во время войны. Папу сочли предателем. Штат Кентукки не откололся от Союза. Папу хотели повесить за то, что он не поддерживал Союз.
Милли в конце концов согласилась переехать в дом поменьше. Остину не понравился бы маленький дом. Но девочки уговорили ее. Они выстроили свои воспоминания на старом камине, как коллекцию ненужного хлама, потом закрыли ставни в доме Остина и оставили там и самого хозяина. Так было лучше для Милли — воспоминания могут быть опасны, если больше ничего нет в жизни.
У них всех дома были больше, чем у Остина, и уж точно намного больше того дома, который он оставил Милли, однако они съехались к Милли, чтобы подпитаться ее воспоминаниями об их отце и укрепиться ее духом, как новообращенные — идеями культа.
Судья говорил: «Вот нагрянут старость и болезни, тогда пожалеешь, что не накопил денег».
Его дочери неизбежно должны были на себе ощутить хватку этого мира — чтобы представить себе некое прибежище на горизонте.
Ночи Алабама проводила в раздумьях: неизбежное происходит с людьми, но они внутренне готовы к этому. Ребенок прощает своих родителей, когда осознает, что его рождение — подарок прихотливого случая.
— Нам надо начать с самого начала, — сказала она Дэвиду, — с новыми ассоциациями, с новыми ожиданиями, за которые мы заплатим своим опытом, как вырезными купонами.
— Взрослое морализаторство!
— Правильно, ведь мы и есть взрослые, разве нет?
— Боже мой! Вот уж не думал! А мои картины тоже утратили молодость?..
— Они хороши, как прежде.
— Алабама, мне пора приниматься за работу. Почему мы пустили на ветер лучшие годы своей жизни?
— Чтобы в конце у нас не осталось нерастраченного времени.
— Ты неисправимая софистка.
— Все люди софисты, разве что одни в личной жизни, а другие — в философии.
— То есть?
— То есть цель в этой игре сделать все так, чтобы, когда Бонни будет столько же лет, сколько нам теперь, и она начнет анализировать нашу жизнь, ей удастся найти замечательную мозаику с портретами двух богов домашнего очага. Глядя на это изображение, она почувствует, что не совсем напрасно в какой-то период своей жизни была вынуждена пожертвовать своей страстью к неведомым дарам неизведанного ради сохранения этого — по ее мнению — сокровища, которое получила от нас. Тогда она поверит в то, что ее азарт и беспокойство осталось в прошлом.
В день собрания евангелистов послышался голос Бонни на подъездной аллее.
— До свидания, миссис Джонсон. Мама и папа будут очень рады, что благодаря вашей любезности и доброте я так хорошо провела время.
С довольным видом она поднялась по ступенькам, и Алабама услыхала, как она мурлычет в холле.
— Наверно, тебе очень понравилось…
— Сборище противных старикашек!
— Тогда почему ты врала?
— Ты же сама говорила, — сказала Бонни, высокомерно глядя на мать, — когда мне не понравилась одна дама, что я вела себя невежливо. Так что теперь ты, надеюсь, довольна мною.
— О да!
Люди ничего не понимают в своих отношениях! Как только начинают понимать, отношения заканчиваются.
— Совесть, — прошептала сама себе Алабама, — мне кажется, есть окончательное предательство.
Она лишь попросила Бонни поберечь чувства дамы.