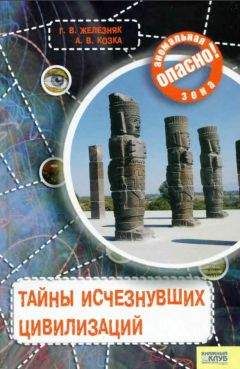Василий Яновский - Поля Елисейские
После развала фронта и падения Парижа я попал в Монпелье. Зимою 1940–1941 гг. Ирина Гржебина мне сообщила, что получила письмо от Вильде: едет в свободную зону, «официально» демобилизоваться, будет в Монпелье. О его бегстве из плена мы уже слышали.
Я встретился с Вильде после обеда в кафе на Эспланаде. На нем была новенькая серая пара (я ходил в заплатках)… Хорошее белье, манжеты, запонки. Курил Gitane Jaune; за обедом — с Гржебиной — заказал дичь и хорошее вино.
Перечитывая книги о Савинкове, я нашел там ту же особую подпольную смесь жертвенного подвига и шампанского.
Мы пили кофе с коньяком и осторожно беседовали. Он мельком сказал, что здесь еще есть много работы, и спросил, верно ли, что я решил ехать в Америку…
Я тогда был «возмущен» Францией, легкостью, с какой она сдалась на милость победителя. От дворцов нуворишей до лачуг бедняков — все жаждали мирного труда et qu'on me fiche la paix![43] Я мечтал о регулярной армии: эту войну нельзя выиграть партизанщиной. Еще надежда — Россия! Чудовищная, тоталитарная, дикая, татарская, московская, византийская, аввакумовская Русь! Всякий раз, когда гуманизму угрожала подлинная опасность, она становилась в ряды просвещенных держав и вместе с ними, неся преимущественно потери, тузила очередного врага человечества. Так было во времена Чингисхана, Карла Шведского, Наполеона, Германии Вильгельма и Германии Третьего мифа… В малых войнах Россия ошибалась, и даже очень: от Польши до Финляндии, от Кавказа до Венгрии и Маньчжурии. Но в великих конфликтах Москва чудесным образом оказывалась на «правильном» пути истории. Ангел, что ли, ее подталкивал.
Вильде спорил: Россия теперь в союзе с Германией. Она враг! Поможет нам Америка. Что США вмешаются в войну, он предвидел, но вклад СССР — проморгал.
На этом, собственно, разговор кончился; оснований для дальнейшего сближения как будто не было. Он мне только сообщил адрес человека, влиятельного в местной префектуре, если понадобится «административная» услуга. Я его спросил о друзьях в Париже, но он ответил, что никого больше не встречает.
Рассказывал, как бежал из плена, что удавалось всем, ибо миллионная армия очутилась за изгородью без надлежащей охраны. В сущности, если бы он оттуда не ушел, то вероятно выжил бы.
Вильде вернулся в Париж кружным путем, побывав еще в нескольких южных городах, по-видимому, организуя подпольные ячейки. Несмотря на конспирацию, он все-таки изредка встречал Фондаминского — доставлял ему пропуски для легального проезда в свободную зону. Так, Федотовы прикатили в Марсель по документу, полученному от Вильде.
Представляю себе умиление Фондаминского, когда он принимал у себя жившего по подложному «виду» Вильде: третье поколение боевой, нелегальной, жертвенной интеллигенции! Есть чем гордиться: исторический опыт русского ордена гуманистов не пропадал даром. Зажженный факел борьбы за свободу, равенство и братство, принятый когда-то народниками, передан дальше молодому поколению в неприкосновенном виде. Традиционная связь Народной Воли с современными передовыми силами истории должно считать установленной… Так по праву мог думать Фондаминский, чья квартира на 130 Авеню де Версай превращалась из штаба в музей русской культуры.
Неожиданно, когда Вильде выходил из кафе, на него набросилось несколько коренастых холуев в штатском, скрутили руки и швырнули в машину… Вижу, вижу его холодный, ясный взгляд и оскал челюсти с тускло блестевшими коронками. Оттуда, должно быть, вышла моя «Челюсть эмигранта».
Весной 1941 г. (или 42-го?), проезжая Ниццу, я наведался к Адамовичу; тот молча мне протянул открытку из Парижа от Ставрова: «После продолжительной болезни, вчера в госпитале скончался Борис Дикой»… Как и почему мы сразу догадались, что «госпиталь» — это тюрьма, а «скончался» обозначает — казнен! Увы, тоже историческая традиция. Радищев, Пущин, Белинский, Достоевский, Салтыков-Щедрин — все пользовались этим греческим языком. Когда в коммунистическом Петрограде разнесся слух, что «Шатер задержан» — литераторы поняли, что арестовали Гумилева.
Есть тихий городок под Парижем, на излучине реки — рядом знаменитое скаковое поле. Там в госпитале, кажется, Фоша, работала медсестрой моя жена; я приезжал по воскресным дням… По тихой воде скользили рыбачьи и спортивные лодки, в ресторанах подавали рыбу в любом виде и, конечно, вино. Было свежо, благоуханно и очень скучно. Проходя к вокзалу, я с отвращением разглядывал военную тюрьму (или крепость) с высокой светлой стеной, отгораживающей пустую четырехугольную площадку. Мне кажется, что именно у этого места меня всегда начинало мутить, что я всегда приписывал двойной порции рыбы. И туда, вечность спустя, вывели на расстрел первую группу французских «резистантов» во главе с Борисом Вильде. В своем дневнике Вильде пишет, что предпочитает умереть теперь, в расцвете сил и решимости, а не «после», когда, может быть, сила и отвага иссякнут. Эти строки прямым образом перекликаются со словами героя Стендаля, когда ему предлагали бежать из тюрьмы.
В Париже подвизался поэт Ю. Рогаля-Левицкий. Во времена Поплавского мы втроем почему-то часто блуждали ночью по городу, шептали стихи или спорили о тибетских мудрецах. После смерти Поплавского мы, проходя от Пантеона к Сене, неизменно повторяли: «И волна жары по ним бежала…» (Из «Флагов».)
— Понимаете ли вы, как это хорошо? — осведомлялся я.
Левицкий снисходительно откликался:
— Я понимаю.
В антологию зарубежной литературы «Якорь» Рогаля-Левицкий не попал, и я вел по этому поводу переговоры с Адамовичем. Рогаля-Левицкий уверял, что если «Булкин там, то и я имею право».
В послевоенный сборник парижских поэтов «Четырнадцать» не угодили Иванов, Гиппиус, Смоленский, Злобин — как сотрудничавшие с немцами… Но были помещены стихи Рогаля-Левицкого с эпиграфом из Поплавского: «И волна жары по ним бежала».
А когда Мельгунов заказал ему статью, «уничтожающую» всю эмигрантскую литературу, кроме ближайших сотрудников «Возрождения», то Рогаля-Левицкий с радостью взялся за новый труд, причем мишенью избрал он именно эти строки Поплавского, очевидно, издеваясь над Мельгуновым…
Упомянуть о Ю. Рогаля-Левицком мне кажется необходимо, потому что я хочу рассказать о его брате, погибшем рядом с Вильде… Раз в своем отельном номере он меня познакомил с сияющей парой не то уже обвенчавшихся, не то собирающихся обвенчаться молодых влюбленных. Все в них радовало, улыбалось и вызывало улыбку. И это несмотря на западноевропейскую сдержанность и вежливую непроницаемость. Мужчина оказался братом нашего Рогаля-Левицкого, женщина, если память мне не изменяет, говорила только по-французски. Он был ученым, готовился к кафедре и работал в музее Трокадеро. Теперь там висит доска с именами всех этих веселых и отважных русских людей, начавших борьбу за освобождение Франции. («Есть музей этнографии в городе этом» — Гумилев.)
X
Есть особая порода людей в литературе — случайных!.. Некоторое время они даже чем-то выделяются, пользуются уважением или признанием, а потом вдруг как бы проваливаются сквозь землю, исчезают с горизонта, соблазненные семейным счастьем или коммерческой деятельностью. Впрочем, порой вы опять услышите о них: даже на бирже или в конторе — они шумят.
Вот таким человеком был Кельберин. На мою память, он ничего значительного не произвел, хотя сочинял стихи и болтал беспрерывно… Однако многие влиятельные поэты — Иванов, Злобин, Оцуп — относились к Кельберину с вниманием. В последние годы перед войной он громил демократию и даже похваливал немцев, что казалось несколько смешным. Стихам своим он, кажется, не придавал большого значения. По поводу одного его эссе (в «Смотре», изданном Гиппиус) Адамович сказал в «Последних новостях»: «Если бы Хлестаков задумал соперничать с Паскалем, то вероятно он бы писал в таком именно духе…» (цитирую по памяти). К чести Кельберина надо заявить, что подобные отзывы его не огорчали.
Кельберин, мистически настроенный, многократно сочетался законным браком; одной из его ранних жен была Лидия Червинская.
Червинская — бессонные ночи, разговоры до зари, пьяные и трезвые требовательные слезы. И хорошие подчас стихи.
В период «Круга» я сталкивался с Червинской едва ли не ежевечерне; она могла казаться несносною со всеми недостатками сноба, оглядывающегося на шефов литературной кухни. Но раз признав человека, она уже становилась если не верным товарищем, то во всяком случае занятным собутыльником.
Червинская жила в искусственном мире, искусственным бытом, искусственными отношениями. В результате ряда искусственных выдумок получалась ее весьма искусная, реальная поэзия.
Она создавала фантазией свои трагедии влюбленности и ревности, но от этого нельзя было просто отмахнуться, ибо в невоплощенной реальности порою заложено настоящее бытие.