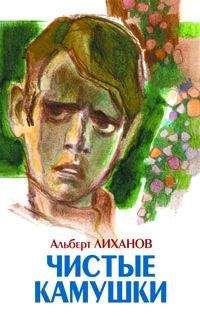Альберт Лиханов - Невинные тайны
— Деньги у него могли быть? — спросил, наморщась, начальник лагеря.
— Были, — вздохнул Павел. И уточнил: — Оказывается, были. Немалые.
Про эти деньги рассказал ему Генка Соколов. Пояснил: «Четыре зелененьких». Две сотни.
Белесые глаза у Генки были выпучены, и эти две сотни казались ему последним аргументом в да-авнем уже его предположении, что Женька Егоренков самый загадочный парень в отряде и что он скоро сбежит.
Павел сослался на рассуждения Генки Соколова, однако самый последний довод его привести не решился, боясь, что обсмеют. Подумав, позвали на совет Генку.
— Только уговор, — сказал начлагеря, — на пацана не давить и отнестись к нему на самом большом серьезе.
Ха, попробовал бы кто отнестись к Генке несерьезно!
Он возник на пороге кабинета с выпученными шариками и не воскликнул, а выдохнул:
— Ну, поймали их?!
— Кого — их? — начальника лагеря даже, кажется, бросило в пот.
— Как кого? Банду!
— Садись-ка, садись!
Генку усадили на председательское место за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Начлагеря пересел на боковой стул. А Генка плел свою версию. Такую версию, что и слушать страшно.
— И-иех! Его же от них спасать надо!
Торопясь, перебивая самого себя, Генка Соколов рассказал, как дружили они с Женей Егоренковым и всё было хорошо, как однажды пошли дежурить на спасательную станцию и потом, по предложению Зинки, двинули за забор, на дикий пляж, и вот там-то Женьке дала знать о себе его банда — пять или, может быть, даже семь здоровых парней: они отняли у Зинки лифчик, а потом, когда Женька крикнул им что-то из моря, отдали его обратно.
— Какой лифчик! — ужасался начальник лагеря, а его боевой совет вторил ему:
— Какие бандиты!
— Что крикнул?
Генка попробовал взять себя в руки, говорить толково, не путаясь.
— Откуда у него такие деньги? Четыре зеленых! И все н-новенькие!
Ответом было молчание. Действительно, откуда? Кто знал?
— Это ему его банда дала. Вообще Женька — человек из банды.
— И кем же он мог быть в этой банде? — осторожно спросил Павел.
— Н-ну, — Генка пожал плечами, — наводчиком, например. Как я.
— Как ты?
Генка ухмыльнулся:
— Целых три года в кабале был. Еле вырвался. Меня даже в другой детский дом перевели. В другой город.
— Расскажи поподробней, — дружелюбно попросила вожатая Агаша. Она тут работала не то пятый, не то шестой год.
— Ничего интересного нет, — махнул рукой Генка, — противно только. — Он помолчал, вздохнул по-взрослому. — Да вы не думайте, что я такой гад, они стращали, что сеструху испортят. У меня еще сеструха маленькая есть. Вот я и боялся.
Павел вздрогнул, взрослые как-то притихли, осели. Перед ними сидел мальчишка, ребенок в пионерском галстуке, а они привыкли относиться к людям такого возраста в соответствии с ним. Но этот небольшой человек, этот, можно подумать, ребёнок говорил с ними совсем не о детских вещах. Однако по-детски откровенно. И поэтому получалось — жестоко.
— Ну, в общем, им нужен был такой, как я, пескарь называется. Если вы рыбачили когда-нибудь, наверное, знаете, что на крючок сажают пескаря. А на живца идет большая рыба. Хороший пескарь — половина дела. Ну вот. Они откуда-то узнали, что у меня есть Маруська. Ей тогда семь лет было, сначала они меня по-хорошему пескарем звали. Я отказывался. Тогда они вежливо так зовут меня на пустырь. Думал, бить будут. А они мне Маруську показывают, поймали ее, держат, она ревет. И подол ей задираю. Смотри, говорят. А она без трусов. «Если, — говорят, — соглашаешься, мы все до единого ее охранять будем, а если нет, то сам понимаешь». Я говорю: «Вас ведь посадят!» Они говорят: «Мы несовершеннолетние. Да еще на тебя самого покажем». Я согласился.
Генка передернул плечами, его и сейчас еще знобило. Начальник лагеря подошел к шкафу, достал свой пиджак, накинул мальчишке на плечи.
Павел подумал со стыдом, что они, взрослые, когда были наедине, вели себя возбужденно, чрезмерно возбужденно, наперебой выдумывали всевозможные варианты, среди которых было немало серьезных, глуповатых для их возраста, строил предположения навроде тех, что они с Аней однажды вечером позволили себе, рассуждая о характерах и привычках ребят. И вот пришел мальчишка, и вдруг оказалось, что он взрослее взрослых. Что он говорит о серьезной, жестокой и даже жутковатой жизни, которая им, считающим себя опытными и бывалыми, известна лишь только из книжек, да еще и далеко не всяких. Может, даже неизвестна вообще.
Они притихли, опытные вожатые, мастера воспитания. Неизвестно, как остальным, а Павлу стало совестно. От них требуется не экзальтация, не перебивание друг друга в неимоверных догадках, а серьезная суровость, даже жёсткость в оценке положения и принятие таких решений, которые бы не разжигали чувства, не давали возможности ощущать себя страстными педагогами, а приносили практическую пользу.
Вошёл мальчишка и словно бы сказал им, умелым: «Хватит соплей, пусть даже очень ответственных! Делайте, что-нибудь делайте!»
В кабинете было тихо, как не бывало тут никогда, если считать полного отсутствия в нем людей. И эта тишина дорогого стоила.
«Почаще бы нам такой тишины», — подумал Павел.
— Прости нас, Гена, — сказал начальник лагеря, — что мы, — он с трудом подобрал слово, — растревожили тебя.
— Ничего, — проговорил Генка. Он грелся в широком пиджаке начальника, глаза его бойко поблескивали. Он продолжил рассказ, чувствуя, что произвел впечатление и его слушают доброжелательно и горько. — Возле завода в день получки работает, скажем, пивнушка. Сперва, конечно, банда смотрит, нет ли милиции, потом я лезу в карман к какому-нибудь дядьке. Просто так лезу! На шармачка! Мне от него ничего не надо! Лезу, чтобы он почувствовал, увидел. Он начинает матюгаться, бежать за мной. Я за угол, за другой, за дровяники, но только так, чтобы он сильно не отставал. А за сарайками его мои паханы ждут. Всем шалманом навалятся, и зарплаты — тю-тю, нету! Или наводил я на какую квартиру, где дверь послабее. Ходишь по домам, спрашиваешь, к примеру, какого-нибудь Хомутова, звонишь в разные двери. Особенно хорошо на последнем этаже и чтобы лифт был. Или если прямо с лестницы выход на крышу.
— Не попадался? — спросила Агаша.
— Еще как! Били, будто последнюю собаку. Сапогами. У меня ведь одна почка отрезана. Ну да ничего! Еще одна есть!
Павел снова сжал кулаки. Что-то знакомое садануло его, давнее воспоминание, тот мальчишка. В грязном халате и с опасной, совсем взрослой штуковиной, плюющейся свинцом. И он, Павел, стоит перед ним — вооруженный и беззащитный.