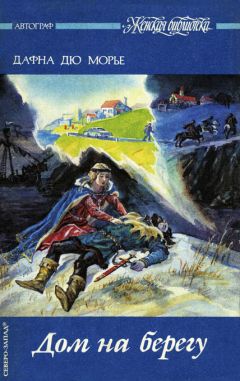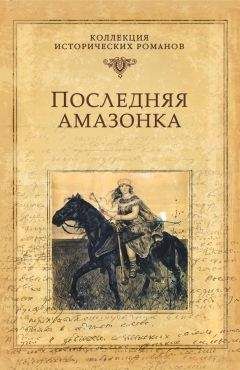Лариса Райт - Мелодия встреч и разлук
— Смотреть надо! — решается кто-то из девочек выкрикнуть в спину Алине.
— Ишь, не обернулась даже! — вторит ей соседка.
— Долго еще терпеть будем? — спрашивает третья, медленно обводя всех взглядом. И чувствуется, как между ними в воздухе устанавливается невидимое, молчаливое согласие.
Алина этот разговор не слышит и не слушает, спешит укрыться за поворотом, найти какой-нибудь уголок, где не будет ни чужих глаз, ни ртов, ни ушей. Ей не плохо, ей невыносимо. Невыносимо от этих слов, сказанных только что добродушным хирургом:
— Где же ты раньше была, милая?
— Я?
— Ну, не ты. Мама твоя. С такими данными могла бы балериной стать.
— Какой?
— Талантливой. Кость узкая, рост маленький, выворотность чудесная, гуттаперчивость отменная. Ты, поди, и на шпагат садишься.
— Сажусь.
— Ну вот. Не балерина — мечта.
— Но у меня же нога.
— Вот я и спрашиваю, где ты была раньше? Исправить можно было твою ногу. Плевое дело, понимаешь? Сейчас бы порхала. А теперь уже возраст, дорогая, возраст. Кости стали другие. Теперь уже думать и думать, надо ли рисковать.
— Я… Я не понимаю, о чем вы. Вы хотите сказать, что если бы мне раньше сделали операцию, то я бы не хромала?
— Не хочу сказать, а говорю. Ну, может, не одну операцию, а две или три, но ножки были бы равные, равные были бы ножки. Вот так-то. А теперь-то уж да… Не стал бы я, честно скажу. Нет, можно, конечно, вытянуть, но сколько сейчас на это времени понадобится, и сил, и денег, — скрывать не буду — не знаю. Так что, милая, я лицемерить не стану. Бога не гневи, не кори его в своем недостатке. Если и надо тут кого обвинять, то уж не его одного, это точно.
— Я в бога не верю.
— Напрасно, дорогая, напрасно, — врач по-прежнему вертит в руках ногу Алины. — А что же врачи-то? Куда смотрели?
— Меня к ним не водили.
— Вот как? А здешние что говорят?
— Я тут только две недели. Антон Петрович, ортопед наш, велел вам показаться. Сказал, что раз в месяц вы тут консультируете и мне надо к вам сходить обязательно.
— Да уж. Надо. Надо было лет пять назад. Ну, максимум три года. А теперь уж. Что уж. Тебе сколько лет-то? — хирург заглядывает в карту Алины.
— Тринадцать.
— Многовато, детка. Ты нос-то не вешай. Так-то вся жизнь впереди.
— …
— И отчаиваться не нужно. Что тебе назначили?
— Массаж, ЛФК, суставную гимнастику.
— Правильно, суставную — это хорошо. Это, я тебе даже скажу, замечательно. А раньше ты где занималась?
— Нигде.
— Как это? Ты из какого интерната?
— А я раньше в обыкновенной школе училась. А сюда меня соседка устроила. Да и то не сразу. Пришлось полгода уговаривать. Она тоже говорила, что поздно, только не объясняла почему. Согласилась лишь тогда, когда этот нашла с французским языком. У меня в школе французский был.
— Да, французский это тоже неплохо, весьма неплохо, — врач наконец отпускает ногу Алины. — Значит, так, милая, гимнастику делай, на французский ходи, а от операции я бы уже воздержался, воздержался бы от операции.
«Воздержался бы от операции», — слова профессора из медицинской академии не выходят у Алины из головы. Она сидит под лестницей, прижав худые запястья к острым коленкам и снова и снова мысленно прокручивает весь разговор. Несколько раз повторяет реплики врача, будто сомневается в сказанном. Вслушивается в звучание каждого слова, словно примеряет его на себя, изучает его весомость, осознает его оправданность. Наконец она замолкает и решительно вылезает из своего убежища. На первом этаже у телефона, как всегда, очередь из толпы скучающих по дому ребятишек. Алине не терпится:
— Дайте позвонить!
— А ты лучше всех, что ли? Подождешь!
— Мне очень надо.
— Здесь всем надо.
— Вы же тут хромые все, а не глухие! Нужно человеку, вам говорят!
— Сама глухая! И тебе говорят: всем надо.
— Ну пожалуйста…
— Иди отсюда!
И Алина идет. Идет к директору. Без спроса хватает в канцелярии телефон и под вопли секретаря набирает домашний номер.
— Привет, — отрывисто приветствует снявшую трубку сестру.
— Алишка! Как здорово, что ты звонишь! У меня такие новости, ты не представляешь. Ты такая умничка, что тогда сорвала прслушивание. Ведь теперь, ты не поверишь…
— Тоня дома?
— Что?
— Тетя Тоня дома?
— Да. Кажется, да. Так вот, я узнала, что…
— Позови!
— Сейчас, я только расскажу тебе о…
— Позови ее! Вот кто, оказывается, глухой, — ты!
Обиженная Маша бросает трубку. Алина тут же перезванивает и слышит в ответ удивленный голос Антонины Степановны:
— Алиночка, что случилось?
— Вы знали? Скажите, вы это знали?
— Что? О чем ты?
— Об операции. Вы знали, что все можно исправить?
— Алина, я психиатр, а не ортопед и…
— И поэтому вы хотите, чтобы все вокруг сошли с ума!
— Да что ты такое говоришь?
— Говорю то, что думаю. Зачем лечить человека? Пусть он лучше свихнется от горя, и у вас будет новый пациент.
— Алина, ты в своем уме?!
— Нет! Готовьте койку!
Алина выбегает из канцелярии, не обращая внимания на возмущенные «Что это значит?», «Изволь объясниться!» и «Как только не стыдно?». Оборачивается лишь на окрик директора:
— Зайди ко мне завтра, когда успокоишься. Поговорим…
Они поговорят. Поговорят на следующий день. Но не в кабинете директора, а в лечебном изоляторе. Только допрашивать Алину станут не о причинах ее возмутительного поведения, а о происхождении на ее теле синяков и ссадин, из-за которых она и окажется на больничной койке.
— Кто это сделал? — будет строго вопрошать директриса.
— Я… Я сама, — стиснув зубы, станет отвечать Алина.
— Скажи мне правду! Как это случилось?
— Я упала.
— Ночью? Интересно…
— Я упала с кровати.
— Пятнадцать раз?
— Может быть, я не помню.
— Алина, я все равно узнаю.
— Тогда зачем меня спрашиваете?
— Я хочу наказать виновных, а придется наказать тебя за вранье.
— Наказывайте, — вялое движение плечами заставляет ее скривиться от боли. Девочки били куда придется. Все, что успела сделать Алина, — натянуть тоненькое одеяло на голову и вцепиться в него обеими руками. Именно поэтому лицо в драке уцелело. Хотя и драки как таковой не было. Алина отчаянно, пока хватало сил, лягала ногами пустоту, а потом лишь тихонько лежала, свернувшись калачиком, вздрагивая от очередного удара и надеясь, что теперь физическая боль если и не освободит ее навсегда от моральных страданий, то хотя бы ненадолго заставит о них забыть.