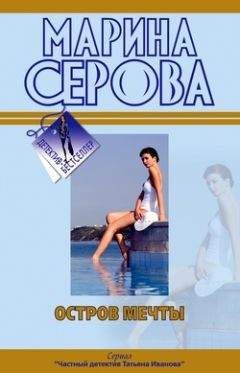Маргарет Этвуд - Слепой убийца
Памятники погибшим воинам она бросила — на них не было спроса. Теперь Кэлли ваяла барельефы рабочих и фермеров, рыбаков в штормовках, индейских охотников и матерей в фартуках — они из-под руки глядят на солнце, а на боку у них висят грудные дети. Такое могли себе позволить только страховые компании и банки; они устанавливали барельефы на фасадах — доказывали, что не отстают от времени. Неприятно работать на откровенных капиталистов, говорила Кэлли, но главное — передать свою мысль: зато любой прохожий эти барельефы увидит — причем бесплатно. Это искусство для народа, говорила она.
Кэлли надеялась, что отец ей поможет, устроит новые заказы от банков. Но отец сухо отвечал, что с банками у него дружба разладилась.
В тот вечер Кэлли надела темно-серое платье из джерси — цвет называется маренго, сказала она. На другой женщине такое платье смотрелось бы пыльным мешком с рукавами и поясом, но Кэлли удалось представить его — не то чтобы верхом изящества или шика, это платье как бы подразумевало, что такие вещи не стоят внимания — чем-то неприметным, но острым, как обычная кухонная утварь — нож для колки льда, к примеру, за секунду до убийства. Такое платье — как поднятый кулак, но среди молчаливой толпы.
Отцовскому смокингу пригодился бы утюг. Смокингу Гриффена — не пригодился бы. Алекс Томас надел коричневый пиджак, серые фланелевые брюки (слишком плотные для такой погоды) и галстук — синий в красную крапинку. Белая рубашка, слишком свободный воротничок. Одежда будто с чужого плеча. Что ж, он ведь не ждал, что его пригласят на ужин.
— Какой прелестный дом, — произнесла Уинифред Гриффен Прайор с дежурной улыбкой, когда мы шли в столовую. — Он такой… так хорошо сохранился! Какие изумительные витражи — прямо fin de siècle[75]! Наверное, жить здесь — все равно, что в музее.
Она имела в виду, что дом устарелый. Я почувствовала себя униженной: мне всегда казалось, что витражи красивы. Но я понимала, что мнение Уинифред — это мнение внешнего мира, который в таких вещах разбирается и выносит приговор, — мира, куда я отчаянно мечтала попасть. Теперь я видела, что совсем для него не подхожу. Такая провинциальная, неотесанная.
— Эти витражи — замечательные образцы определенного периода, — сказал Ричард. — Панели тоже превосходны. — Несмотря на его педантичность и снисходительность, я была ему благодарна: мне не пришло в голову, что он составляет опись. Он различил нашу шаткость с первого взгляда, понял, что дом идет с молотка или вот-вот пойдет.
— Музей — потому что пыльный? — спросил Алекс Томас. Или устаревший?
Отец нахмурился. Уинифред, надо отдать ей должное, покраснела.
— Нельзя нападать на слабых, — заметила Кэлли с довольным видом.
— Почему? — спросил Алекс. — Все так делают. Рини подготовила основательное меню — насколько мы могли себе позволить. Но задача оказалась ей не по зубам. Раковый суп, окунь по-провансальски, цыпленок a la Провиданс — блюда сменяли друг друга в неотвратимом параде, точно прибой или рок. Суп отдавал жестью, пережаренный цыпленок — мукой, и к тому же затвердел и усох. Было что-то неприличное в этой картине — столько людей в одной комнате, энергично и решительно работающих челюстями. Не еда — жевание.
Уинифред Прайор двигала кусочки по тарелке, словно играла в домино. На меня накатила ярость: сама я намеревалась съесть все, даже косточки. Я не подведу Рини. Прежде, думала я, она допускала таких промашек — её нельзя было застать врасплох, разоблачить и тем самым разоблачить нас. В старое доброе время позвали бы специалистов.
Рядом со мной трудился Алекс Томас. Он усердно работал ножом, словно от этого зависела его жизнь: цыпленок так и скрипел. (Не то чтобы Рини благодарила его за преданность. Не сомневайтесь, она всегда знала, кто что съел. Да, у этого Алекса-как-его-там аппетит отменный, — заметила она. — Можно подумать, в подвале голодал.)
Учитывая обстоятельства, беседа не клеилась. Но наконец после сыра — чедер слишком молодой, соус слишком старый, а блю — слишком с душком — наступил перерыв, и мы смогли отдохнуть и осмотреться.
Отец обратил единственный голубой глаз на Алекса Томаса.
— Итак, молодой человек, — проговорил он тоном, который, видимо, сам считал верхом дружелюбия, — что привело вас в наш замечательный город? — Будто отец семейства из скучной викторианской пьесы. Я опустила глаза.
— Я приехал к друзьям, сэр, — довольно вежливо ответил Алекс.
(Позже Рини высказалась насчет его вежливости. Сироты хорошо воспитаны, потому что в приютах им вбивают хорошие манеры. Только сирота может держаться так самоуверенно, но под самоуверенностью кроется мстительность — в глубине души они над всеми глумятся. Ну, ещё бы — с ними же вон как судьба обошлась. Анархисты и похитители детей обычно сироты.)
— Дочь мне сказала, вы готовитесь принять сан, — продолжал отец. (Мы с Лорой ничего такого не говорили — должно быть, Рини, и она, конечно, — может, по злому умыслу — слегка ошиблась.)
— Я собирался, сэр, — сказал Алекс, — но пришлось это оставить. Добрались до развилки.
— А теперь? — спросил отец, привыкший получать конкретные ответы.
— Теперь живу своим умом, — ответил Алекс. И улыбнулся, точно сам себя осуждает.
— Должно быть, трудно вам, — пробормотал Ричард. Уинифред засмеялась.
Я удивилась: не думала, что он способен на такое остроумие.
— Он, наверное, хочет сказать, что работает репортером, — предположила Уинифред. — Среди нас шпион!
Алекс снова улыбнулся и промолчал. Отец нахмурился. В его представлении все журналисты — паразиты. Не только безбожно лгут, ещё и кормятся чужими несчастьям. Трупные мухи, вот как он их звал. Он делал исключение только для Элвуда Мюррея, поскольку знал его семью. Элвуда он звал всего лишь болтуном.
Потом беседа потекла в привычном русле — политика, экономика, обычные тогда темы. Мнение отца: все хуже и хуже; мнение Ричарда: наступает переломный момент. Трудно сказать, вступила Уинифред, но она, безусловно, надеется, что удастся не выпустить Джинна из бутылки.
— Какого джинна? Из какой бутылки? — спросила Лора — прежде она молчала. Будто стул заговорил.
— Социальные беспорядки, — строго ответил отец, давая понять, что в дальнейшем Лоре лучше не встревать.
Вряд ли, сказал Алекс. Он только что из лагерей. — Из лагерей? — переспросил озадаченный отец. —
Каких лагерей?
— Для безработных, сэр, — ответил Алекс. — Трудовые лагеря Беннетта для безработных. Десять часов работы в день и объедки. Ребятам это не очень-то нравится; я бы сказал, они уже неспокойны.