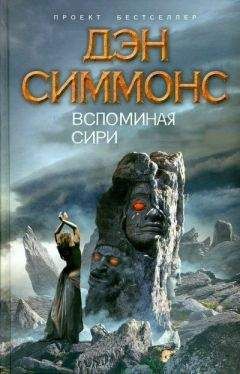Сири Хустведт - Печали американца
Рот Миранды растянулся в улыбку, и она расхохоталась:
— Трудно? Мне с тобой трудно? С чего ты это взяла?
Эгги тоже заулыбалась в ответ, потом ткнулась головой матери в шею и принялась пылко ее целовать, приговаривая:
— Мамочка, мамочка моя!
— Пойдем-ка домой, моя радость, а то у Эрика наверняка еще куча дел.
— Только пусть меня понесу-у-ут. Я хочу, чтоб меня понесли. Ну пожалуйста.
— Эгги, ты же уже большая! — укоризненно покачала головой Миранда.
Нам пришлось тащить нашу маленькую симулянтку вдвоем — я за ноги, Миранда за руки — вниз по лестнице. В прихожей мы ее покачали пару раз вправо-влево, потом бегом ворвались в их квартиру, а она все это время заливалась смехом. Дома Эгги и Миранда, обнявшись, рухнули на диван, а я пошел к себе. Закрывая дверь, я слышал, как Миранда напевает какую-то чудесную мелодию. Голос у нее оказался высоким, куда выше, чем я ожидал, и очень чистым.
Тем же вечером я позвонил Лоре Капелли. Несомненно, сцена, разыгравшаяся у меня в гостиной между Эгги и Мирандой, имела самое непосредственное отношение к решению пригласить на свидание другую женщину. Сегодня я увидел совсем другую Миранду — открытую, теплую, нежную, веселую, — такой она была со своей маленькой дочерью. Ею двигали инстинкты, они не ошибаются, и те же самые инстинкты заставляли ее вести себя настороженно и отчужденно в моем обществе. Мы с Лорой оказались почти соседями, и, когда я позвонил и пригласил ее в пятницу поужинать вместе, она сказала:
— Ну, давайте.
Несмотря на некоторую неоднозначность ответа, голос звучал ласково, и в пятницу я неожиданно для себя понял, что очень жду встречи.
Когда Лора вошла в ресторан, я уже сидел за столиком. Первое, что бросилось мне в глаза, — глубокое декольте ее блузки, открывавшее взору ложбинку между грудями. Значит, весь вечер мне предстояло бороться с искушением заглянуть внутрь выреза. Но я тут же подумал, что профессиональный психотерапевт, каковым Лора являлась, наверняка в курсе «языка» одежды, хотя, с другой стороны, мне столько раз приходилось быть свидетелем невероятной наивности коллег, когда дело касалось их собственных действий, что я почел за лучшее не спешить с выводами.
Лора Капелли все делала заразительно: болтала, хохотала и ела. При взгляде на оливковую кожу, иссиня-черные кудри, обрамлявшие лицо, и пышные округлые формы все прочие мысли просто выметало из головы. У нее было множество пациентов, бывший муж и тринадцатилетний сын, вдруг зациклившийся на своих волосах. Каждое утро в ванной он по часу колдовал над ними при помощи всяческих гелей и щеток, а в ответ на материнские замечания об этих парикмахерских ухищрениях лишь недоуменно поднимал брови:
— Волосы? А что мои волосы?
После того как Лора с аппетитом уплела порцию сливочного крем-брюле и сообщила мне свое мнение по поводу малоежек моего пола и моей комплекции, мы оказались на улице, и я предложил проводить ее домой.
Когда я наклонился, чтобы поцеловать ее на прощание, она обхватила меня за пояс обеими руками, и из этой медвежьей хватки было не вырваться, да я и не пытался. Дальше все пошло как по писаному. Она на цыпочках провела меня в дом, у двери, за которой спал сын, предостерегающе поднесла палец к губам, потом мы поднялись на второй этаж в ее спальню и рухнули на кровать. После недолгого сопротивления все пуговицы и молнии сдались, мы нашли губы и языки друг друга, и два наших тела сплелись, оказываясь то над, то под, то в. Ее кожа пахла пудрой и ванилью и была чуть солоноватой на вкус. Все длилось так долго, что я должен был держаться и держался до того момента, пока не понял, что она на грани. Лора сидела на мне верхом. Наш ритм стал ровным и медленным. Она запрокинула голову, закрыла глаза и почти захрипела, словно пыталась подавить рвущийся из груди вопль. Тут я тоже дал себе волю, и через мгновение мы уже лежали рядом на сине-белых простынях. Потом Лора села и залилась смехом. Я тоже сел, а она зажимала себе рот руками и сквозь истерический хохот, который было не унять, шептала:
— Господи, Эрик, господи…
После этого мы еще где-то с час лежали в постели и тихонько разговаривали, но я чувствовал, что она нервничает, как бы не проснулся сын, и постарался уйти как можно тише, проскользнув вниз по лестнице, мимо комнаты Алекса и через входную дверь на улицу. Лора жила на Сент-Джонз-плейс, так что на Седьмой авеню я оказался около двух ночи. Ночной воздух показался мне неожиданно прохладным. Несмотря на поздний час, кругом было полно молодняка в сильном подпитии. Они пихались локтями и плечами, грузно повисая друг на друге и гогоча остальным на потеху. Хмель от выпитого за ужином успел выветриться, а после всего пережитого ни о каком сне не могло быть и речи, так что, дойдя до Гарфилд-плейс, вместо того чтобы свернуть к дому, я быстрым шагом пошел вдоль закрытых магазинов, мимо попадавшихся навстречу запоздалых собачников и влюбленных парочек, явно торопящихся нырнуть в постель. Так, не переводя дыхания, я дошел до 20-й улицы и Гринвудского кладбища, которое лежало передо мной, тускло поблескивая надгробиями и могильными плитами в свете фонарей. Мне вспомнился Лорин бюст, смуглая кожа в вырезе и белизна грудей, ее маячащая в воздухе незагорелая попа, любовная дрожь под аккомпанемент сдавленных воплей, но память об этом теле вдруг превратилась в нечто отстраненное, эдакий обратный просмотр недавних кадров.
Повернув назад, я зашагал по Восьмой авеню и дальше, через парк, а видения подступали и подступали, частью родившиеся из чьих-то слов, частью реальные и от многократных повторений сложившиеся в некое смутное обобщение, частью, напротив, поражающие, пусть на миг, отчетливостью и живостью. Они возникали и исчезали в такт моим шагам по мостовой. Я видел бабушку, грузно поднимающуюся на крыльцо кухни: в каждой руке по тяжелому ведру, подол ситцевого платья рвет ветер. Я видел деда с зажатым в обрубках искалеченных пальцев пакетиком конфет. Другой, здоровой рукой он разрывает его, и леденцы стеклянной зелено-белой струей сыплются в мои заждавшиеся ладони. Вижу иссохшего, как жердь, Макса, его ладонь, почему-то несоразмерно большую и темную, в которой тонут тонкие прозрачные пальчики Инги. «Я хочу, чтобы ты нашла себе кого-нибудь и обязательно вышла замуж. Ты ведь по-прежнему моя молодая жена, а скоро станешь молодой вдовой. Пусть у меня будет веселая вдова, пусть поет и пляшет. Только не будь одна». Я представлял, как маленькая мама наклоняется над гробом и целует своего отца в щеку, а потом передо мной возникала изготовленная Лорелеей старуха на смертном одре. Я видел Эдди Блай в роли Лили Дрейк, идущую с тяжелым чемоданом по улице города без названия, видел вышедшего за порог хозяина гостиницы, видел, как он что-то быстро говорит ей на языке жестов, видел, как она ему отвечает на свой лад, как стремительно движутся ее пальцы, и вспоминал музыку Шостаковича, звучащую на заднем плане. Я видел отца, сидящего на больничной койке, слышал его кашель, когда он пытался справиться с вязкой мокротой, засевшей в разрушенных легких, видел его лицо, замкнутое и погруженное в себя. «Раньше у меня получалось». Видел, как мама застегивает ему пижаму, поправляет воротник, потом проходит мимо меня, достает откуда-то зубную щетку и пластмассовый тазик и помогает отцу чистить зубы. Я желаю ему спокойной ночи и обнимаю. Напоследок отец улыбается какой-то покаянной улыбкой.
— Ну и времена, — говорит он. — Стараюсь не раскисать, а никак. Тянет на сентиментальность.
Я стою в коридоре и слышу мамин голос:
— Тебе еще что-нибудь надо, Ларс? Если нет, то ложись, отдыхай. Постарайся заснуть.
От Гарфилд-плейс до дома было рукой подать. В одной из комнат первого этажа горел свет. Занавески были задернуты, но окна, все три, распахнуты, так что от улицы их отделяли только металлические прутья решетки. Я бросил взгляд на часы. Десять минут четвертого. Подойдя к крыльцу, я увидел на верхней ступеньке кипу бумаг. Я сразу понял, что это, наклоняться было незачем.
На крыльце валялись фотографии, напечатанные в большинстве своем на дешевой офисной бумаге. Их было около сотни. Бессчетное количество снимков Эгги и Миранды, автопортреты Лейна с камерой, еще какие-то люди, я их не узнал, и, наконец, я сам. Вот я по дороге на работу, вот сижу в кафе на 43-й улице и читаю за едой, вот шагаю к метро, вот утром на крыльце поднимаю газету, которую принес почтальон, и вот еще одна фотография, снятая дома через окно, я на ней с чашкой кофе в руках. Я перебирал снимки, быстро откладывая то, что уже посмотрел, в сторону, как вдруг в самом низу бумажной кипы обнаружил фото обнаженной Миранды. Она спала в постели, очевидно постели Лейна, на боку, наполовину зарывшись лицом в подушку. Снимок был изрядно помят. Войдя в дом, я положил его на стол и не без некоторого чувства вины тщательно расправил. При виде изгиба ее узких бедер, чуть прикрытой локтем груди меня вдруг охватило страшное нервное возбуждение. Я подошел к окну и опустил жалюзи.